В.В.Фомин
КОММЕНТАРИИ
к книге С.А.Гедеонова «Варяги и Русь»
Комментарии к Предисловию
[1] Все вопросы, которые С.А.Гедеонов, как и в этом случае, затрагивает в «Предисловии», подробно разбираются им в исследовании.
[2] Родоначальник «скептической школы» М.Т.Каченовский, полагая, что дошедшие до нас летописи были созданы только в XIII-XIV вв., утверждал, что отсюда степень их достоверности «невелика». Уверен он был и в том, «что до конца XI ст. все повествования летописей основаны на преданиях, уже искаженных в устах четырех или более поколений, на поэтических (часто самых нелепых) вымыслах...» {1}. Ученики Каченовского уже совершенно отрицали использование в летописях до середины XI в. народных преданий, объявив все события до этого времени либо выдумкой летописца, либо заимствованными им из иностранных источников {2}. Д.И.Иловайский весьма недоверчиво отнесся к большинству известий Повести временных лет (ПВЛ) второй половины IX-X вв., считая, что летопись, начавшись легендами и баснями, «становится полнее, достовернее, обстоятельнее» лишь по мере приближения событий к эпохе самого летописца, т. е. к началу XII века. При этом он упрекал своих противников в том, что они «ограничиваются голословными фразами о правдивости Нестора вообще» {3}.
Близко к тому рассуждал Н.И.Костомаров {4}. Подобные настроения проявились, к сожалению, и в советской историографии. М.Д.Приселков был категоричен в своем выводе, что до начала XI в. летопись является для нас «источником искусственным и малонадежным», построенным, главным образом, на устной традиции {5}. Затем Я.С Лурье высказал мнение, что для истории IX-X вв. ПВЛ «является недостаточно надежным источником» {6}. Столь явный «скепсис» в отношении древнейшей летописи и отсутствие в научных кругах реакции на него проистекали из построений Д.С.Лихачева, согласно которым летописание зародилось лишь в 1073 г. {7} В свете чего доверие к ПВЛ как к историческому источнику резко снижалось, ибо она в таком случае слишком далеко отстоит от излагаемых событий, что непременно должно породить не только искажения в их передаче, но и преднамеренный вымысел. На начало русского летописания глазами Лихачева уже более полувека смотрят многие ученые как у нас, так и за рубежом, хотя в науке имеется иная точка зрения.
Еще И.И.Срезневский высказал плодотворную мысль, что первые летописные заметки появились на Руси в начале X в. и «начинались с пометок на пасхальных таблицах» {8}. М.И.Сухомлинов заметил, что читаемые только в Никоновской летописи записи под 6372, 6373, 6375 «близки по времени к событиям» {9}. А.А.Куник выразил уверенность в том, «что первые начатки нашего летописания возникли в Киеве еще в IX-м веке, вслед за первым крещением руси, – в виде кратких заметок о туземных событиях...» {10}. Митрополит Макарий утвердительно говорил, что летописи велись в X в., причем в разных местах – Киеве, Новгороде, на Волыни {11}. Последнюю мысль полностью поддержал И.И.Срезневский {12}. И.Е.Забелин высказался в пользу того, что первые летописные известия о начальной истории Руси были связаны с первой христианской общиной в Киеве, появление которой он относил к 60-м гг. IX в. {13} В XX в. раннее возникновение летописания было доказано нашими историками. Н.К.Никольский показал, что повести о полянах, следы которых сохранились в ПВЛ, складывались еще в дохристианский период {14}. М.Н.Тихомиров, заостряя внимание на том факте, что летописные известия за вторую половину X в. «более точные и более подробные», чем за первую половину XI в., убедительно продемонстрировал наличие произведений летописного жанра в конце X столетия {15}. Л.В.Черепнин выделил свод 996 г., в основе которого лежала, по его мнению, старинная повесть о полянах-руси {16}. Б.А.Рыбаков считал, что первые летописные записи появились в IX в. и велись (не систематически) на протяжении всего последующего столетия. А в 996-997 гг. в Киеве был создан первый летописный свод, вобравший в себя предшествующие годичные записи, сведения из византийских источников, придворную эпическую поэзию, информацию самого летописца, отдельные сказания, записанные в X в. {17} А.Г.Кузьмин, твердо полагая, что «какие-то записи исторического характера неизбежно возникали уже в IX веке», говорит о начале русского летописания во второй половине X в., причем, по его словам, оно велось сразу же в нескольких центрах {18}. Недавно он, подчеркнув, что «живые рассказы о событиях X в. могли быть записаны только в X в.», увязал внесенный в летопись рассказ о расселении славян с Дуная с христианской общиной в Киеве при Ильинской церкви первой половины X в. {19}
[3] Еще Н.М.Карамзин в ответе Шлецеру, пытавшемуся вычеркнуть из истории черноморскую русь, по его словам неизвестно откуда пришедшую и затем неизвестно куда канувшую, резонно заметил, что «народы не падают с неба, и не скрываются в землю, как мертвецы по сказкам суеверия» {20}. Открытие Руси Причерноморской, существовавшей намного ранее прихода Рюрика на Северо-Запад, связано с именем Г.Эверса, в 1814 г. увидевшего в ней хазар (или понтийскую русь в отличии от волжской руси, также связанной, по его мнению, с хазарами) {21}. За Эверсом о Черноморской Руси затем говорили либо прямые его последователи, как, например, историки И.Г.Нейман и Г.Розенкампф {22}, либо те ученые, что искали и находили многочисленные следы руси на просторах Восточной и Западной Европы {23}.
В наше время Д.Т.Березовец доказал идентификацию «русов» восточных авторов с аланами Подонья, носителями весьма развитой салтовской культуры. На основании греческих и арабских источников, а также топонимики Крымского полуострова Д.Л.Талис показал существование Причерноморской Руси в VIII – начале X в. в Восточном и Западном Крыму, а также в Северном и Восточном Приазовье, увязав ее с носителями салтовской культуры – аланами. М.Ю.Брайчевский «русские» названия днепровских порогов, приведенные Константином Багрянородным и которым норманисты уделяют исключительное значение, объяснил из осетинского языка, являющегося наследием аланского {24}. О.Н.Трубачев в Причерноморской Руси видит реликт индоарийских племен, населявших Северное Причерноморье во II тыс. до н.э. и отчасти позднее {25}. Е.С.Галкина и А.Г.Кузьмин увязывают эту Русь с «розомонами» («народом рос»), этническая природа которых, по их мнению, не может однозначно решена {26}.
Норманисты по-разному объясняют присутствие на юге Восточной Европы руси задолго до появления в ее пределах руси варяжской. В 80-90-х гг. XIX в. на базе византийских известий о черноморской руси были выдвинуты две теории. Е.Е.Голубинский предложил видеть в ней норманнов, до 839 г. явившихся в Причерноморье, слившихся там с остатками готов, и досаждавших византийцам. И лишь позже в Новгороде осели другие норманны, основавшие там всем известное русское княжество во главе с Рюриком {27}. В.Г.Васильевский, установив факт знакомства византийцев с руссами до 842 г., отождествил причерноморскую русь с тавроскифами, а тех, в свою очередь, с готами, готаланами и валанготами, проживавшими в то время в Крыму. Варяги-норманны, придя позднее в этот район, перемешались с готами, приняв их язык как церковный {28}.
В среде норманистов особенно прижилась теория Е.Е.Голубинского. А.А.Шахматов, утверждал, «русь – это древнейший слой варягов, появившихся на Днепре и основавших Киевское государство около 840 года. Места, покинутые русью, по его мысли, вскоре заняли другие скандинавы, именуемые на севере и на юге только как варяги. Будучи изгнанными из Северо-Западной Руси, норманны вновь появляются там «в качестве завоевателей» и во главе с Рюриком создают варяжское государство, а затем уже подчиняют себе Южную Русь и воспринимают ее имя {29}. Г.В.Вернадский полагал, что шведы к 739 г. вышли к Азовскому и между 750-760 гг. к Северокавказскому регионам. Азовские скандинавы приняли название русов, в связи с чем, государство, основанное ими в Азовском регионе, в будущем будет известно как Русский каганат {30}. В настоящее время к мыслям, высказанным Голубинским, Шахматовым, Вернадским, возвратились В.Я.Петрухин и Е.А.Мельникова. Петрухин утверждает, что скандинавская дружина киевского князя Игоря, известная как русь, т.е. гребцы, участники похода на судах, варягами стала называть «наемников-скандинавов», т.е. давших клятву верности, а затем и все население Скандинавии {31}. По словам Мельниковой, летописец «различал и противопоставлял «русь» и «варягов» как разновременные волны скандинавских мигрантов, занявших различное положение в древнерусском обществе и государстве». Первых она видит в скандинавах Олега и Игоря (знать и воинское сословие), во вторых тех их соотечественников, что приходили «на Русь в качестве воинов-наемников и торговцев, как правило, на короткое время» {32}. Впрочем, еще Г.Ф.Миллер в марте 1750 г. в ходе обсуждения его диссертации, в конечном счете с громким скандалом отвергнутой Академией наук, говорил, что «у варягов, которые в течение нескольких поколений жили в России, название варяги постепенно вышло из употребления, и его заменило название руссы; в последующие же времена варягами назывались только те, кто вновь прибывал из заморских стран, чтобы сражаться под русскими знаменами», а именно, «наемные воины из датчан, норвежцев и шведов...» {33}
[4] Мнение о Несторе, как создателе ПВЛ, было впервые высказано В.Н.Татищевым {34}. Его затем всемерно отстаивал А.Л.Шлецер, вынеся имя Нестора в заглавие своего труда и стремясь при этом воссоздать «чистого, неиспорченного» Нестора {35}. Вскоре Г.Эверс и П.М.Строев установили сводческий характер летописей, вобравших в себя предшествующий материал {36}. Вопрос о создателе летописи остро обсуждался в 20-60-х гг. XIX века. Исследователи, сопоставив и проанализировав, с одной стороны, Житие Феодосия Печерского и Чтение о Борисе и Глебе, без сомнения, написанные Нестором, а с другой – ПВЛ, выявили между ними, по словам С.М.Соловьева, «поразительные разноречия». Особое значение в этом плане имели выводы П.Казанского и П.С.Билярского. Казанский, сравнив ПВЛ и Житие Феодосия Печерского, установил, что Нестор не является автором летописи. Билярский, сопоставив язык Чтения о Борисе и Глебе и летопись, пришел к лингвистически обоснованному выводу, что «сочинитель сказания не одно и то же лицо с летописцем» {37}.
По поводу Сильвестра, имя которого значится в некоторых списках летописи в качестве ее создателя, позиция ученых не была так четко обозначена: его считали то сводчиком, то переписчиком. Как заметил И.И.Срезневский: «Был ли Сильвестр переписчиком или же трудился и над составлением летописи? Этот вопрос пока еще не может быть решен удовлетворительно» {38}. Примерно также смотрели на проблему атрибуции ПВЛ в последние десятилетия позапрошлого столетия: авторство Нестора в основном отрицалось, а авторство Сильвестра либо ставилось под сомнение, либо, наоборот, выдвигалось. В 1904 г. А.А.Шахматов автором ПВЛ называл Сильвестра {39}, но, начиная с 1908 г., недошедший до нас оригинал летописи он приписывал Нестору {40}. В советской и современной историографии вопрос об авторстве ПВЛ почти не ставился и вслед за Шахматовым в науке ее создание приписывается Нестору. Сильвестра при этом в редчайших случаях считают либо составителем летописи, либо смотрят на него как на редактора труда Нестора, либо в большинстве своем ученые видят в нем простого переписчика. А.Г.Кузьмин исчерпывающе показал, что Нестор хотя и «писал тогда же, когда осуществлялась работа над известными теперь редакциями Повести временных лет», но не был знаком с этой летописью. Над летописью работал на последнем этапе ее создания игумен Выдубицкого монастыря Сильвестр, постриженик Печерского монастыря, в котором он находился до 90-х годов XI века {41}.
Комментарии к Первой части
[5] Германцы (немцы, скандинавы, англо-саксы) именовали южнобалтийских славян вендами или виндами (Wenden, Winden), а их страну Винланд, Виндланд (Vinland, Vindland). Последние называли себя славянами (точнее, словенами). Южнобалтийских славян принято разделять на три больших союза племен, не имевших прочных границ: самое западное, занимавшее земли от Южной Ютландии до р. Рокитницы, – ободриты (бодричи), куда входили вагры, полабы, древане, глиняне, смоляне, рароги-рериги (собственно бодричи), варны; на востоке и к юго-востоку от них до р. Одры лютичи (велеты, вильцы) – хижане, руяне (жители о. Руяна-Рюгена), черезпеняне, доленчане, ратаре, укране, моричане, речане, брижане, стодоряне (гаволяне), глиняне, любушане, шпреяне, плоне и другие; затем, между Одрой, Вислой, Вартой и Нотецею, поморяне, из которых выделяют кашубов и словинцев. Южнее лютичей проживало еще одно крупное объединение полабских славян – сербы-лужичане, включавшее в себя мильчан, гломачей и дечан {42}.
[6] ПВЛ выводит начало двух восточнославянских племен – радимичей и вятичей – от «ляхов»: «радимичи бо и вятичи от ляхов. Бяста бо 2 брата в лясех, Радим, а другий Вятко, и пришедъша седоста Радим на Съжю, и прозвашася радимичи, а Вятъко седе с родом своим по Оце, от негоже прозвашася вятичи». Под 984 г. в рассказе о походе Владимира на радимичей в ней вновь подчеркнуто, что «быша же радимичи от рода ляхов, пришедше ту ся вселиша, и платять дань Руси, повоз везуть и до сего дне» {43}. Приведенные слова летописи А.А.Шахматов, как и С.А.Гедеонов, понимали в буквальном смысле {44}. Ныне в науке принято мнение, что «летописное «от ляхов» имеет не этнический, а географический смысл. Оно не обязательно должно означать, говорил чешский славист Л.Нидерле, что радимичи и вятичи «пришли из Польши и являлись непосредственно польскими племенами, оно может означать, что они пришли от ляхов, то есть с той стороны, от польских границ». Нидерле не сомневался, что никакими историческими данными «эта легенда не подтверждается» {45}. Д.С.Лихачев отнес рассказ о Радиме и Вятке к «ученым домыслам летописца», к «династической легенде», объясняющей происхождение местных князей и местных названий, но не всего племени в целом {46}. Археолог В.В.Седов полагает, что радимичи в IX в. в бассейн Сожа переселились, возможно, из Верхнего Поднестровья, а вятичи в самом начале VIII в. на верхнюю Оку из Днепровского левобережья. Утверждение летописца, что «радимичи бо и вятичи от ляхов», заключает Седов, «носит, очевидно, легендарный характер» {47}. К мнению летописи о «ляшском» происхождении радимичей и вятичей примыкают ее же сообщения об уплате ими дани и Киеву и хазарам «щълягами».
А.Г.Кузьмин, обращая внимание на тот факт, что в Восточной Европе в IX в. ходили преимущественно арабские монеты и отчасти салтовского Подонья, а «щеляг» – это польская форма западноевропейского «шиллинга», оставляет читателей перед дилеммой: «щъляг» предполагает либо легенду, «либо все-таки западное происхождение вятичей и радимичей, которые пользовались «польскими» расчетными единицами...» {48}
Известие ПВЛ, что «радимичи бо и вятичи от ляхов», несомненно, отголосок древнего предания, говорившего о переселении в Восточную Европу какой-то части не просто западных, а именно южнобалтийских славян, и его не обязательно связывать конкретно с названными племенами. В этом плане очень важно уточнение летописца, что под ляхами на Руси понимали весьма большую совокупность западных сородичей восточных славян, а не только поляков. Вот что он записал в этнографическом введении о начале расселения славян с Дуная: «Словени же ови пришедше седоша на Висле, и прозвашася ляхове, а от тех ляхов прозвашася поляне, ляхове друзии лутичи, ини мазовшане, ини поморяне (курсив мой. – В.Ф.)» {49}. В середине 1980-х гг. А.А.Зализняк, основываясь на данных берестяных грамот, запечатлевших разговорный язык новгородцев XI-XV вв., пришел к выводу, что древненовгородский диалект отличен от юго-западнорусских диалектов, но близок к западнославянскому и, как при этом было подчеркнуто, особенно севернолехитскому {50}. В 2002 г. академик В.Л.Янин в одном из интервью отметил, что аналог новгородскому диалекту, имевшему около тридцати признаков отличия от киевского, найден в Польше. Западные славяне, подытожил ученый, шли на Восток «из-за натиска немцев» {51}.
[7] Принципиальную правоту выводов С.А.Гедеонова полностью подтверждает сегодняшнее состояние науки. Крупнейший филолог XIX в. И.И.Срезневский, видя в варягах скандинавов, заключил, что в русском языке имеется около десятка слов происхождения либо действительно германского, либо возможно германского. При этом он подчеркивал, что эти слова могли перейти к нам без непосредственных связей, через соседей {52}. Эти подсчеты в XX в. уточнили ученые-норманисты. В 1912 г. С.Н.Сыромятников указал на восемь заимствований в древнерусском языке из шведского, а в 1931 г. В.А.Мошин окончательно признал таковыми всего лишь шесть {53}. Но речь все же идет не о шведских, а о германских заимствованиях вообще.
Совершенно иная картина наблюдается на Западе, где, в отличие от Руси, действительно были норманны. Так, отзвуки скандинавского языка слышны еще сегодня в нормандском диалекте французского языка. Во Франции до сих пор некоторые города «сохранили названия, которые присвоили им основатели-викинги тысячу лет назад», а «из 126 деревень на о. Льюис – одном из внешних Гебридских островов (Великобритания. – В.Ф.) – 110 имеют либо чисто скандинавское название, либо какое-то его подобие». Восточная Англия, подвергшаяся датской колонизации, и в настоящую пору несет на себе ярко выраженный скандинавский отпечаток. В восточном графстве Линкольншир, например, «более половины современных названий деревень имеют скандинавское происхождение» {54}. Е.А.Мельникова констатирует, что завоевание датчанами восточных областей Англии отразилось в английском языке в виде многочисленных лексических заимствований (до 10% современного лексического фонда) и ряда морфологических инноваций. Вместе с тем она вынуждена признать, что не только не отмечено ни одного случая фонетических, морфологических или синтаксических инноваций в древнерусском, которые могли бы произойти под влиянием скандинавских языков, но даже в лексике, наиболее проницаемой и динамической области языка, «взаимообмен не был интенсивным и широким» {55}.
Не только русский язык, но и русская топонимика отвергает норманскую теорию. Е.А.Рыдзевская подчеркивала, «что ни один из больших древнерусских городов не носит названия, объясняющегося из скандинавского» {56}. Позже С.Роспонд отметил совершенное отсутствие среди названий древнерусских городов IX-X вв. «скандинавских названий...» {57} И это притом, что варяги активно занимались градостроительством. Так, они в 862 г., придя в Северо-Западную Русь, «срубиша» Новгород, Белоозеро и Изборск, а затем Рюрик «раздая волости и городы рубити...». Ставят варяги города и в Южной Руси. Под 882 г. летопись сообщает, что Олег, захватив Киев, «нача городы ставити...», а под 988 г., что Владимир «нача ставити городы по Десне, и по Востри, и по Трубежеви, и по Суле, и по Стугне...» {58} И во всех случаях они дают русским городам славянские названия. А ведь это явное свидетельство того, что языком общения варягов был именно славянский язык, а не шведский или какой-то иной германский язык. На это прямо указывает летописная статья под 6406 г., где четко сказано, что «словеньскый язык и рускый одно есть...» {59} В НПЛ младшего извода под 854 г. читается фраза, что «новгородстии людие до днешняго дни от рода варяжьска» {60}, т. е. «от рода варяжьска» происходит, замечает А.Н.Сахаров, «не верхушка, не дружина, а именно «людье» – все новгородское население родственно варягам-руси» {61}.
Под правильным углом смотреть на русско-шведские отношения той далекой поры позволяет тот принципиально важный факт, что шведский и другие скандинавские языки заимствовали из древнерусского весьма значимые слова, например, «lodhia» – лодья (грузовое судно), «torg» – торг, рынок, торговая площадь, «besman» («bisman») – безмен, «tolk» – объяснение, перевод, переводчик, толковин, pitschaft – печать и другие {62}. По мнению норманистов, эти слова попали в скандинавские языки благодаря все тем же скандинавам: «Возвращаясь в Скандинавию, они несли определенные знания русского языка, в первую очередь, лексический запас для обозначения специфически древнерусских предметов, явлений, географических объектов» {63}. При этом они, конечно, не утруждают себя объяснениями, зачем скандинавы несли на родину совершенно чуждые им понятия, почему они затем вошли в повседневный обиход шведов, норвежцев, датчан, исландцев. А этот процесс, подтвердят языковеды, не так прост, как кому-то может казаться.
Исходя хотя бы из того, что слово «torg» стало достоянием всего скандинавского мира, то «мы должны признать, — как совершенно верно выводит норманист С.Сыромятников, — что люди, приходившие торговать в скандинавские страны и приносившие с собою арабские монеты, были славянами» {64}. То, что торговые пути на Балтике, а затем в Восточной Европе прокладывали славяне, говорят, наряду с лингвистическими, нумизматические данные: самые древние клады восточных монет находятся на южнобалтийском Поморье (VIII в.), заселенном славянскими и славяноязычными народами. Позже такие клады появляются на Готланде (начало IX в.) и лишь только в середине этого столетия в самой Швеции {65}.
При этом в историографии отмечается, что западная граница массового распространения восточных монет проходит по р. Лабе, т. е. совпадает с границей расселения славян и резко обрывается на рубеже с Саксонией и Тюрингией. «Это обстоятельство, – заключает Б.А.Рыбаков, – естественнее всего связывать с действиями купцов-славян, для которых область славянского языка была областью их деятельности» {66}. Славянские купцы были давно привычным явлением для всех прибалтийских, в том числе и скандинавских земель. Так, к словам «torg» и «besman» в скандинавских языках примыкает «cona» («монета») в старофризском, заимствованное из древнерусского, где «куна» означала «куница, куний мех, деньги». И данное слово опять же говорит о приоритете славянских купцов в балтийской торговле, и вместе с тем о том, что они предлагали своим покупателям в первую очередь. Об их торговле пушниной на Балтике свидетельствует русское слово «соболь», которое через средневерхненемецкое «sabel» перешло в немецкое «Zobel», и также заимствованное скандинавскими языками. А старославянское «kozuch» в значении «мех», видимо, полагают специалисты, преобразовалось в средневековое латинское «crusna», «crusina», древневерхненемецкое и древнесаксонское «kursinna», старофризское «kersua» {67}.
Южная Балтика того времени, в отличие от других территорий Балтийского региона и прежде всего Скандинавии, характеризовалась весьма высоким уровнем развития экономической жизни. Археолог А.В.Фомин наличие в ее пределах самых ранних кладов восточных монет по берегам Балтийского моря как раз объясняет именно этим фактором {68}. Действительно, торговля являлась одним из самых приоритетных занятий южнобалтийских славян. На это указывает топография кладов {69}. Отсюда понятно, почему предшественниками Ганзы стали именно южнобалтийские торговые города Старград, Росток, Штетин, Волин, Колобрег, а никакие другие побережные города {70}. По мнению В.В.Похлебкина, в VIII-XII вв. балтийской торговлей владели и задавали в ней тон южнобалтийские славяне {71}. И прежде всего со своими восточноевропейскими сородичами они вели торговлю, о чем опять же свидетельствует нумизматика, «наука, — по оценке С.А.Гедеонова, — действующая с математической определенностью».
В 1968 г. В.М.Потин установил, что «огромное скопление кладов» восточных монет «в районе Приладожья и их состав указывают на теснейшие связи этой части Руси с южным берегом Балтийского моря» {72}. В литературе, включая зарубежную, признается «безусловное родство» древнерусских и южнобалтийских кладов и вместе с тем их довольно резкое отличие от скандинавских, в том числе и от готландских. По мнению Потина, это свидетельство того, что контрагентами восточных славян в балтийской торговле могли быть только жители Южной Балтики. Он же заостряет внимание на том факте, что крупнейшие клады западноевропейских монет X-XI вв. найдены лишь на южном побережье Балтийского моря и на территории Руси. «Именно через портовые западнославянские города, — подытоживает исследователь, — шел основной поток германских денариев на Русь» {73}.
Торговые связи Новгородской земли с Южной Балтикой фиксируются не только весьма ранним временем, но и характеризуются своей масштабностью. В науке отмечается, что до первой трети IX в. включительно «основная и при том сравнительно более ранняя группа западноевропейских кладов обнаружена не на скандинавских землях, а на землях балтийских славян» {74}. А.Н.Кирпичников на основе самых последних данных уточняет, что «до середины IX в. не устанавливается» сколько-нибудь значительного проникновения арабского серебра «на о. Готланд и в материковую Швецию (больше их обнаруживается в областях западных славян)» {75}. И это при том, что начало дирхемной торговли нумизматический материал позволяет сейчас отнести к 50-60 гг. VIII в. {76} Из чего следует, что долгое время, почти сто лет эта торговля по существу не затрагивала скандинавов. Но вопреки фактам норманисты продолжают приписывать открытие Балтийско-Волжского пути скандинавам, утверждать, что «ранний этап восточноевропейской торговли следует рассматривать как норманско-арабский» и т. п. {77}
В.Л.Янин еще в 1956 г. пришел выводу, что торговые связи между восточными и южнобалтийскими славянами осуществлялись непосредственно и являлись «по существу внутриславянскими связями, развивавшимися без заметного участия скандинавов» {78}. Недавно А.Н.Кирпичников, хоть и в малой мере, но все же оспорил миф о лидерстве скандинавов в освоении и использовании торговых путей в Восточной Европе. По его заключению, «доминирующая, посредническая миссия викингов, здесь, думается, не очевидна. Остается предположить, что торговая активность славян была в тот период не меньшей, если не превосходила северогерманскую» {79}. Но все дело заключается в том, что к балтийской торговле скандинавы имели либо опосредованное, либо самое незначительное отношение. Возникнув как чисто славянское явление, объединяющее балтийских и восточных сородичей, она лишь со временем втянула в свою орбиту какую-то часть скандинавов, преимущественно жителей островов Борнхольма и Готланда. В.М.Потин, ссылаясь на нумизматические свидетельства, отмечает, что путь из Южной Балтики на Русь пролегал именно через эти острова, «минуя, — констатирует ученый, — Скандинавский полуостров...». Клады на этих островах, добавляет он, «носят следы западнославянского влияния...» {80}
Именно этим морским путем шел на Южную Балтику из Руси Олав Трюггвасон, в будущем норвежский король (995-1000). В одноименной саге ее герой, возвращаясь из Гардарики, подошел «к Боргундархольму (Борнхольму. – В.Ф.) и высадился там на берег... ...Началась буря на море, и не могли они там больше оставаться, и поплыли оттуда на юг к берегам Виндланда» {81}. По этому пути, давно уже «наезженному» ими, в середине XII в. интенсивно ходили новгородские купцы. Так, НПЛ под 1130 г. сообщает, что «идуце и-замория с гот (Готланда. – В.Ф.), потопи лодии 7, и сами истопоша и товар, а друзии вылезоша, н нази;а из Дони (Дании. – В.Ф.) придоша сторови». Затем под 1134 г. в ней сказано, что «рубоша новгородць за моремь в Дони» {82}. Если сага в качестве промежуточного этапа пути называет только Борнхольм, то летописец, словно ее дополняя, упомянул и Готланд. Об этом же пути говорит, называя только его конечные пункты, и Адам Бременский (ок. 1070): от Юмны (Волина) до Новгорода доходят за 14 дней под парусами {83}. Сложение названного пути А.Г.Кузьмин относит к концу VIII в., когда «города южной Балтики начинают торговать с Востоком через Булгар» {84}.
Какую роль играла торговля русских на Балтийском море даже в XII-XIII вв., когда она уже клонилась к закату, а ее место занимала торговля немцев, видно из следующих фактов. В 1157 г. датчане пограбили в Шлезвиге русских купцов, в связи с чем они перестали приходить туда: и город сразу же пришел в упадок {85}. Саксонский герцог Генрих Лев в 50-х гг. XII в. отправил «послов в города и северные государства – Данию, Швецию, Норвегию и Русь, – предлагая им мир, чтобы они имели свободный проезд к его городу Любеку» {86}. Эта грамота не сохранилась, но ее нормы повторил в 1187 г. император Фридрих I Барбаросса, даровав русским, готландцам, норманнам («ruteni, gothi, normanni») и «другим восточным народам» право приходить и покидать город «без налога и пошлины» {87}. Под русскими обычно понимают новгородцев {88}. «Любекский таможенный устав» подтвердил в 20-х гг. XII в. установление императора: «В Любеке не платит пошлины... никто из русских, норвежцев, шведов... ни готландцев, ни ливонцев...» {89} Обращает на себя внимания та последовательность, в которой Фридрих I и «Любекский таможенный устав» называют народы, получающие привилегии, что, несомненно, свидетельствует о степени их важности в глазах немцев. В такой же очередности они читались, думается, и в грамоте Генриха Льва, в свободной форме изложенной Гельмольдом, давшим перечень народов в том порядке, в каком они располагались географически от Вагрии и от Любека, начиная с ближайшей Дании. Археологи-норманисты А.Н.Кирпичников, И.В.Дубов, Г.С.Лебедев подчеркивают, что славянские слова в скандинавском охватывают «наиболее полно и представительно – торговую (включая и транспортную) сферу культуры» {90}. Но это опять же означает только то, что именно посредством славянских купцов скандинавы и были приобщены к торговле, что от них они получили безмен, без которого ее активное ведение просто немыслимо. О том, кто действительно вел торговлю на Балтике, говорят исландские саги. Так, «Сага об Олаве Трюггвасоне» информирует, что в Англии ее герой выдавал себя за иностранного купца «Али Богатого», вместе с товарищами пришедшего «из Гардарики», т. е. Руси. В другом случае, когда речь идет о трехлетнем пребывании Олава в землях южнобалтийских славян, она сообщает, что «с тех пор, как он уехал из Гардарики, не пользовался он более своим именем, а называл себя Оли и говорил, что он гардский», т. е. русский {91}. Т.Н.Джаксон эти факты интерпретирует в привычном для норманизма духе: «Прозвище Гардский (gerzkr), образованное от наименования Руси Garpar-«Гарды», носят в сагах купцы, плавающие на Русь» {92}. В 1879 г. М.Н.Бережков увидел в последнем поступке Олава свидетельство того, что «новгородский купец не был редким явлением в Вендской земле» {93}.
Но все действия Олава в Англии и в Южной Балтике объясняются лишь тем, что на Западе имя гардских-русских было настолько известно и вместе с тем настолько авторитетно, что, назвавшись им, можно было получить так важную в торговых делах защиту и неприкосновенность и, к тому же, спокойно затеряться среди многочисленных русских купцов. В «Саге о людях из Лаксдаля» рассказывается, как Хаскульд на островах Бреннейяр встретил Гилли из Гардов (или Гилли Гардского), т. е. Русского, имя которого все хорошо знали и которого «называли самым богатым из торговых людей». Сам Хаскульд характеризует его как «Гилли Богач» {94}. Материал обеих саг показывает, что торговля на Балтике и далеко за ее пределами в X в. была сосредоточена в руках русских купцов, которые слыли самыми богатыми из торговых людей и которые носили, поэтому, в качестве почетных титулов прозвания «Богатый» или «Богач». У скандинавов, как хорошо известно, был иной профиль занятий. По словам норманиста Д.Щеглова, если русы были известны как купцы, то «скандинавы никому не известны как торговцы, их знают по берегам всех европейских морей только как разбойников!» {95} Еще раньше норманист О.И.Сенковский признавал, что норманны не сообщили славянам выгод торговли, т. к. «презрительно относились к купеческому званию» {96}.
Историк А.Г.Кузьмин, говоря, что часть населения южнобалтийского побережья (в том числе и часть фризов) могла начать в конце VIII в. под давлением Франкского государства движение на восток, указывает, что этот колонизационный поток захватил и Скандинавию, «где долго сохранялись славянские поселения». Саму причину вытеснения в Швеции местного термина «fal» славянским «torg» он как раз видит в наличии на полуострове большого числа славян. В переселенческий поток, добавляет Кузьмин, «неизбежно вовлекались и собственно скандинавы, не говоря уже о вооружении и предметах быта, которые можно было и купить, и выменять, и отнять силой на любом берегу Балтийского моря» {97}. В силу названных причин предметы скандинавской материальной культуры попадали в Восточную Европу. К тому же переселенцы, соприкасаясь со скандинавской культурой в самой Скандинавии, несомненно, заимствовали и переработали какие-то ее элементы, создав еще на подступах к Руси своеобразную культуру, отличающейся эклектичностью и гибридизацией различных по происхождению элементов (южнобалтийских и скандинавских), привнеся ее затем в русские пределы. Некоторое же присутствие скандинавских вещей в русских древностях, конечно, нисколько не означает, что варяжская русь является скандинавской. В 1930 г. археолог Ю.В.Готье, убежденный в том, что варяжский вопрос решен в пользу норманнов, вместе с тем указывал, что на одиночных находках норманских вещей, по его словам, «тонущих в массе предметов иного характера и происхождения», нельзя построить доказательство длительного существования в данном месте скандинавского населения. Они могут свидетельствовать только в пользу того, что скандинавские вещи попадали на Русь, и только {98}.
[8] Под 970 г. в ПВЛ читается: «Святослав посади Ярополка в Киеве, а Ольга в деревех. В се же время придоша людье ноугородьстии, просяще князя собе: «аще не поидете к нам, то налезем князя собе». И рече к ним Святослав: «а бы пошел кто к вам». И отпреся Ярополк и Олег. И рече Добрыня: «просите Володимера» {99}.
[9] Исследователи, в том числе и норманисты, давно обратили внимание на принципиальную разницу в поведении норманнов в Западной Европе и в поведении варягов в Восточной Европе, означающую, что речь идет о совершенно разных народах. Абсолютно был прав А.Васильев, сказав, что «скандинавы нигде не облагали данью побежденных, а всегда грабили и жгли, уничтожали все» {100}. С.А.Гедеонов справедливо подчеркивал, что «викинги никогда не отличались сентиментальностью...» {101} А.И.Никитский, нисколько не видя противоречия в собственных словах, утверждал, что только по отношению к новгородцам скандинавы, известные в Европе как грозные пираты, «проявили дружественность», в связи с чем их движения принимают «мирный торговый отпечаток» {102}. И.Н.Сугорский заострял внимание на хорошо известном всем факте, что викинги «вбивают кровавый след» в жизнь Западной Европы, но «ничего подобного не было у нас, где варяги выступали преимущественно строителями земли как своей отчины и дедины» {103}. В.А.Пархоменко резонно ставил вопрос, почему норманны везде в Западной Европе пираты, береговые разбойники, а на Руси – «вооруженные купцы, культурные государственники, творцы русской государственности?» {104} С.Лесной говорил, что на Руси купцами не могли быть скандинавы, в духе которых «было только грабить подобных купцов» {105}.
И нынешние норманисты отмечают кардинальную разницу в поведении викингов и варягов, понятно, не придавая тому абсолютно никакого значения. Так, Е.А.Мельникова и В.Я.Петрухин, специально задавшись вопросом, каково было восприятие норманнов на Западе и варягов на Востоке, установили, что если для Запада «типичен образ викинга-грабителя», то «в образе варяга на Востоке отсутствуют основные стереотипные характеристики норманна-врага...» {106} Затем Е.А.Мельникова еще раз сказала, что в археологических материалах «следы борьбы местного населения» с варягами практически не прослеживаются, они «скорее рисуют картину мирного существования» {107}. По мнению А.С.Кана, русская народная традиция сохранила образ варяга, «но отнюдь не врага», хотя «средневековые русские летописцы бывали щедры на осуждение иноземцев» {108}.
Д.А.Мачинский признает, что действия варягов «были, по-видимому, менее кровавыми», чем действия норманнов на Западе {109}. А.Н.Кирпичников уверяет, что первые норманнские князья принесли «мир нескольким поколениям жителей Северной Руси» {110}, и что «на значительной части Балто-Волжского маршрута были созданы условия максимального благоприятствования свободному судовождению» {111}. Суждения зарубежных исследователей-норманистов абсолютно совпадают с выводами отечественных ученых. Норвежский археолог А.Стальсберг пришла к выводу, что археологический материал на Руси не свидетельствует в пользу антагонизма между местным населением и чужеземцами, а напротив, говорит об отсутствии отчуждения между ними {112}. По мнению С.Франклина и Д.Шепарда, «скандинавская русь» больше путешествовала с торговыми целями, чем воевала {113}. Приведенных наблюдений уже более чем достаточно, чтобы не смешивать викингов и варягов, ибо стереотипы их поведения, весьма устойчивые во времени, совершенно не совпадают. Принципиальное различие между викингами и варягами как раз и состоит в том, что в то время, когда норманны на Западе занимались грабежом и насилием, захватывали земли, строили на них крепости и подчиняли себе окрестные территории, превращая его население в своих рабов, варяги на Руси, воздвигая крепости лишь по пограничью и защищая землю Русскую от внешнего врага, противостояли подобным грабежам и насилиям, отстаивали свободу русского народа. И если они играли позитивную роль, были одними из творцов восточнославянского государства, то норманны, напоминает А.Г.Кузьмин, «всюду оставили след, и след кровавый, разрушительный» и «нигде не играли созидательной роли». Но этого факта, заключает он, норманисты не принимают во внимание и пытаются представить дело таким образом, будто известные всей Европе кровожадные разбойники сразу «размякли», как только увидели созревших для получения государственности славян» {114}.
[10] Феофилакт Симокатта (ок. 580-641) в своей «Истории» сообщает, что в 590 г. императору Маврикию привели трех пленников, которые не имели «никакого железного оружия или каких-либо военных приспособлений... с ними были только кифары, и ничего другого они не несли с собой. Император стал их расспрашивать, какого они племени, где назначено судьбой им жить и по какой причине они находятся в ромейских пределах. Они отвечали, что по племени они славяне, что живут они на краю западного Океана, что каган отправил к ним послов с тем, чтобы собрать военную силу, и прислал почетные дары их племенным владыкам. Дары они приняли, но в союзной помощи ему отказали, настойчиво указывая на то, что их затрудняет дальность расстояния. А их отправили к кагану в качестве заложников, как бы в доказательство того, что это путешествие длится пятнадцать месяцев, но каган, забыв все законы по отношению к послам, решил чинить им всякие затруднения при возвращении. Они слыхали, говорили они, что ромейский народ и по богатству и по человеколюбию является, так сказать, наиславнейшим; поэтому, обманув [кагана], они выбрали удобный момент и удалились во Фракию. Кифары они носят потому, что не привыкли облекать свои тела в железное оружие – их страна не знает железа, и потому мирно и без мятежей проходит у них жизнь; что они играют на лирах, ибо не обучены трубить в трубы. Тем для кого война является вещью неведомой, естественно, говорили они, более усиленно предаваться музыкальным занятием. Выслушав их рассказы, император пришел в восхищение от их племени, и самих этих варваров, попавших в его руки, он удостоил милостивого приема и угощения» {115}.
[11] По словам Гельмольда, среди всех северных народов одни лишь славяне были упорнее других и позже других обратились в христианство {116}. Кровопролитная борьба южнобалтийских и полабских славян с мощным натиском немцев началась в 789 г., когда состоялся поход Карла Великого на лютичей. С 806 г. франкский император начинает впервые действовать на правом берегу Лабы, и с этой поры начинается планомерный натиск немцев на восток. Особенно усилился он во время правления первого представителя саксонской династии Генриха Птицелова (919-936). По словам А.Ф.Гильфердинга, его приход к власти имел «для балтийских славян роковое последствие», т.к. он придал борьбе с ними тот характер, который она имела для его родного племени – «характер национальной ненависти». Параллельно с этим шла усиленная христианизация славян. Политика немцев встречало постоянное противодействие. В 983-1002 гг. состоялось мощное выступление балтийских и полабских славян, закончившееся изгнанием немцев за Лабу и уничтожением церквей. Славяне даже стали переходить на левый берег Лабы и селиться в немецких землях. В яростном бессилии императоры Оттон II и Конрад думали вовсе истребить «род северных язычников».
В ходе социально-экономического развития общества и в условиях постоянного давления немцев у балтийских славян начинают формироваться зачатки государственности. Еще во времена Карла Великого и Людовика Благочестивого история знает у бодричей могущественных князей. И у лютичей в первой половине IX в. упоминаются князья. Причем западноевропейские авторы подчеркивают существование у тех и других великих князей, которым были подчинены князья второстепенные. Но княжеская власть у лютичей, отмечается в науке, была самая дробная и слабая. Лютицкий союз, говорит В.Д.Королюк, дальше неустойчивого союза племен не пошел, и центральная власть не получила у лютичей никакого развития. Вместе с тем в науке было высказано другое мнение. Как заметил И.А.Лебедев, «новгородская республика в малом виде без князя и посадника, управляемая боярами – вот подобие лютицкого союза». Я.П.Зинчук считал, что Волин, Штетин, Колобрег, будучи крупными экономическими центрами, в XI в. превратились в феодальные республики. Сегодня А.Г.Кузьмин указывает, что у балтийских славян государственность сложилась в виде городов-полисов. Поэтому, продолжает он, варяги, прибыв на Русь, привнесли сюда свой тип социально-политического устройства, «основанный полностью на территориальном принципе, на вечевых традициях и совершенно не предусматривающий возможность централизации».
Иной тип государства создали бодричи, и его начало связано с именем князя Готшалка (1043-1066). Оно включало в свой состав вагров, полабов, глинян, варнов, часть лютичей – черезпенян и хижан, т.е. распростерлось на территории от Лабы до р. Пены. В 1066 г. вспыхнуло, видимо, по инициативе лютичей, восстание против Готшалка, в ходе которого он был убит. Восстание также покончило с господством немцев и христианством за нижней Лабой. После Готшалка во главе государства стоял князь Крутой, родом с Руяны, весьма энергично действовавший против немцев. Его гибель от рук Генриха, сына Готшалка, ослабила общую позицию славян и дала новый толчок к новой немецкой агрессии. Со смертью Генриха в 1119 г. ободритское государство, которому платили дань даже поморяне, распалось. В 1131 г. Никлот был провозглашен князем бодричей, а племянник Генриха – Прибыслав – князем вагров и полабов. Оба князя выступали последовательными противниками немцев и христианства. Но силы южнобалтийских славян постоянно уменьшаются. Так, поморяне и часть лютичей подчинились Польше, руяне стали данниками датчан. В 1138 г. в. началось наступление немцев на Вагрию, и к 1142 г. немцы завоевали уже всю территорию княжества Прибыслава. В 1147 состоялся крестовый поход немцев и датчан на славян, но благодаря согласованному противодействию бодричей, руян и поморян планы захватчиков потерпели провал. Руянский флот разгромил флот датчан в Висмарском заливе, датское войско было разбито и на суше. Но бодричи изменяют союзу и идут на примирение с немцами. Несмотря на это, поморяне и руяне мужественно продолжают войну, нанеся своими флотами несколько чувствительных ударов по восточному побережью Дании, а в 1152 г. всю ее опустошив. В 1157 г. потеряли свою независимость лютичи, которым никто не помог.
Затем наступила очередь остальных славянских племен. В 1157 г. Дания наносит удар по Руяне, но терпит поражения. На помощь к ней приходит герцог Саксонии Генрих Лев, который в 1160 г. вторгся в земли бодричей, а датский флот грабит побережье. Союз славянских княжеств, возникший в 1147 г., не был возобновлен.
В столкновении с немцами и датчанами в 1160 г. погибает Никлот, после чего бодричи были покорены. Но на этом сопротивление бодричей еще не закончилось. В 1164 г. вспыхнуло восстание, возглавляемое Прибыславом, сыном Никлота. Потерпев поражение, он идет на соглашение с немцами, которые уступили ему практически все бывшее княжество его отца. В 1170 г. Прибыслав объявил себя вассалом императора Фридриха I и получил титул мекленбургского герцога. Датчане, осознавая роль Руяны как опорного пункта для завоевания Поморья, направляют на ее захват все свои силы. Состоялось семь походов датского короля против руян, и только с помощью князей бодричей и поморян им удалось покорить в 1168 г. непокорный остров, сохранив там местных князей, обладавших некоторой самостоятельностью. В 1171 датчане и Генрих Лев начинают борьбу с Поморьем. Исход этой борьбы был предрешен. Поморские князья подчинились, а в 1180 г. были провозглашены имперскими князьями и получили титул герцогов Славии.
Причины поражения балтийских славян лежат, по мнению А.А.Котляревского, в беззаботности существования, умственной малоподвижности и беспечности о будущем, по словам И.Первольфа, в раздробленности и усобицах между собой. Л.Нидерле в этом случае дал более развернутую характеристику: «Большому объединенному германскому государству, пользовавшемуся полной поддержкой католической церкви, противостояли славяне, раздробленные на ряд небольших племен и племенных объединений (курсив автора. – В.Ф.)», не только не создавшим против немцев единый союз, но и часто объединявшимся с немцами в борьбе друг с другом. А.Г.Кузьмин добавляет, что «распри поляков и лютичей в конечном счете явились одной из главных причин общего поражения балтийских славян в борьбе против наступления немецких феодалов». Имеется еще один печальный итог истории балтийских и полабских славян, выделенный И.А.Лебедевым: славяне «возделывали эти страны, обрабатывали их, открыли богатства, развили торговлю, положили начало вполне правильной жизни, пришли насильники, воспользовались плодами их трудов и мало того, что уничтожили славян, они говорят, что принесли высокую культуру в эти земли и все заслуги предшественников присваивают себе» {117}.
[12] Так называемая «Краледворская рукопись» является подделкой чешского филолога Вацлава Ганки, одного из самых видных деятелей чешского национального возрождения, пытавшегося в условиях австрийского владычества обратить внимание на чешскую национальную культуру. Он объявил, что в церкви городка Краледворе в 1817 г. обнаружил рукопись чешских народных песен из цикла, посвященной борьбе с польскими, монгольскими и немецкими завоевателями. Умело сфабрикованная подделка ввела в заблуждение специалистов-славистов, датировавших текст песен XIII-XIV веками. Сомнения относительно ее подлинности были высказаны уже в 20-х гг. XIX в., но особенной силы они достигли во второй половине столетия. Как остроумно выразился В.И.Ламанский, эта рукопись и подобные ей принадлежат к числу «новейших произведений древнечешской литературы». Мистификация была раскрыта лишь в начале XX века. Поддельной оказалась и рукопись «Любушин суд» (или «Зеленогорская рукопись») {118}. Вместе с тем, следует отметить, что публикация «Краледворской рукописи» (ее издал Ганка в 1819 г. на чешском языке и в немецком переводе) способствовала подъему национального самосознания чехов.
[13] Инглинги – династия верховных жрецов и племенных вождей (конунгов) свеев, ведущая свое начало от языческих богов Одина, Ньёрда, Фрейра, или Ингви, по имени которого династия и получила свое название. Сложилась она в Упланде (Средняя Швеция, область вокруг озера Меларен, включая города Упсала, Бирка, Сигтуна и район позднее возникшего Стокгольма), ставшем центром объединения свеев и образования шведского государства, и из ее представителей избирали королей Свеаланда («Земля свеев»). Прекратила свое существование в 1060 г. Прежде всего из Упланда норманисты выводят Рюрика и варяжскую русь.
[14] Тема ассимиляции скандинавов в восточнославянском обществе – одна из самых дежурных в работах сторонников норманской теории XX и нынешнего столетия, которая позволяет им закрывать разговор об отсутствии каких-либо следов норманнов в многогранной жизни древнерусского общества, в которой отразилось участие многих народов, но только не скандинавов. Как это делается, прекрасно демонстрируют норманисты разных поколений – В.А.Мошин и Р.Г.Скрынников. Первый из них, не обнаружив влияния скандинавов в русской культуре, объяснял это тем что «нужно все время иметь в виду, что влияние это было ограничено лишь княжеским двором и ближайшей к нему средой, причем и там его вскоре не стало под влиянием ассимиляционной силы славянского племени» {119}. Второй утверждает, что «на обширном пространстве от Ладоги до днепровских порогов множество мест и пунктов носили скандинавские названия». Но, не имея возможности привести хотя бы одно такое название по причине того, что наука его не знает, Скрынников один свой сомнительный тезис закрывает другим: «Со временем следы норманской культуры окончательно исчезли под мощным слоем славянской культуры» {120}. Как понимает читатель, таким приемом можно «доказать» пребывание на Руси под видом варягов кого угодно.
Историки, археологи, филологи, ведя речь об ассимиляции скандинавов на Руси, нисколько не замечают коренного противоречия в своих же словах. А ведь все они единодушно отмечают удивительную стремительность этого процесса, чего, если видеть в варягах совершенно чуждый восточным славянам этнос, не должно было бы и быть. По словам Б.Д.Грекова, потомство Рюрика и все его окружение «поразительно быстро ославянились» {121}. Д.А.Авдусин также говорил, что варяги на Руси быстро ославянились: «...В XI в. скандинавские элементы практически уже не прослеживаются» {122}. Даже зарубежные сторонники скандинавской колонизации Руси признают, отмечала Е.А.Рыдзевская, что скандинавы рано и быстро слились с местным населением и как этнический элемент растворились в нем {123}. Давно уже стало шаблоном утверждение, что якобы имя князя Святослава «является важным свидетельством быстрой – в третьем поколении – ассимиляции скандинавской по происхождению династии русских князей в славянской среде» {124}. И западноевропейские ученые автоматически твердят, что Святослав и Владимир «уже вполне ославянились» {125}.
Получается, что в отсутствии в нашей истории следов пребывания скандинавов до конца X в. виноваты славянские женщины, ибо браки норманнов с ними «вели к поглощению скандинавского этнического элемента местным, а не к укреплению и утверждению первого» {126}. У пришельцев, делятся своими соображениями норманисты, не было женщин в отрядах, что делало их слабыми с колонизаторской точки зрения, т.к. «дети, происшедшие от брака норманнов с славянскими женщинами, должны были чрезвычайно быстро ассимилироваться с окружающей славянской средой» {127}. В Нижнем Поднепровье, рассказывает Р.Г.Скрынников, к началу XI в. завершилась полная ассимиляция норманнов местным славянским населением: «Норманны бесследно исчезли, но земля, ассимилировавшая русов, стала называться «Русью». И еще один пассаж профессора: «К началу XI в. сменилось по крайней мере четыре-пять поколений руссов, родившихся на славянских землях. Восточно-Европейская Нормандия решительно меняла свое обличье» {128}. Вот, оказывается, как нежная славянка не просто поборола сурового викинга, но и почему-то постаралась не оставить и намека о нем в совместном с ним потомстве.
Тому должно было бы остаться не намек, а четкое свидетельство, если, конечно, отцом ее детей действительно был викинг. Немецкий ученый К.Вейнхолд в 1856 г. на конкретных фактах показал, что у скандинавов существовала традиция давать своим детям имя деда или первую половину его имени {129}. Затем русский исследователь И.М.Ивакин обращал внимание на явление, характерное, например, для норманнов: первенцу мальчику и первой девочке при крещении давали имена соответственно дедушки и бабушки по отцовской линии. Второго мальчика и вторую девочку нарекали именами дедушки и бабушки по материнской имени {130}. Если принять версию норманистов, то согласно тому закону, о котором писали Вейнхолд и Ивакин, конечно, все бы наши князья, их сыновья и внуки непременно бы являлись обладателями скандинавских имен, и этому никак не могли бы помешать их матери-славянки. Но таких случаев в эпоху Древнерусского государства не наблюдается. За свои родовые имена не просто прочно, а до своего бы пресечения держалась, если она действительно была бы скандинавской, династия Рюриковичей. Держалась бы точно так же, как держались за них, например, потомки балтийских князей. Так, княжеская династия руян к началу XIV в. уже совсем онемечилась. И одно только напоминало ее славянское происхождение – славянские имена, которые существовали до самого прекращения этого рода. И поморские князья, онемечившиеся уже во второй половине XIII в., употребляли славянские имена до своего прекращения (1637), т. е. еще почти четыреста лет {131}.
Со своей стороны, норманисты говорят, что «наследование имен своих предков, причем по мужской, и по женской линии, являлось для хёвдингов как бы одной из привычных форм публичного предъявления неотъемлемых законных прав, приобретенных по рождению». Но в русских условиях этот принцип не работал, следовательно, не были наши князья скандинавскими «хёвдингами»: их таковыми сделала историографическая традиция, ложная в своем изначальном посыле (см. коммент. [63]). А.А.Молчанов сам же себе противоречит, утверждая, что лишь начиная с середины X в. славянский элемент получает преобладание в именослове князей. У Владимира Святославича 12 сыновей, подытоживает он, нисколько не задумываясь при этом о «стыковке» ранее произнесенных им слов с фактами, но «нет даже намека на апелляцию к ранее столь ценимым североевропейским традициям», что свидетельствует, по его мнению, о полном изживании «к концу X в. скандинавских этнокультурных реминисценций в официально оформляемых семейно-династических представлениях правящего дома Киевской Руси» {132}.
Но о каких «скандинавских этнокультурных реминисценциях» может идти речь, когда имена первых наших правителей не имеют абсолютно никакого отношения к скандинавскому языку и скандинавской истории. С.А.Гедеонов правомерно указывал, что имя Рюрик (Хререкр) шведам «неизвестно» {133}. В 1997 г. шведский ученый Л.Грот вновь отметил, что это имя не встречается в именословах его родины. Он также подчеркнул и тот факт, что в скандинавской письменности слово «helge» в качестве имени собственного как в женской, так и в мужской формах «впервые встречается в поэтическом своде исландских саг «Eddan», написанном в первой половине XIII века». Отсюда, заключает Грот, шведское имя «Helge», означающее «святой» и появившееся в Швеции в ходе распространения христианства в XII в., и русское имя «Олег» IX в. «никакой связи между собой не имеют». Вымощен, а эти слова он адресует в первую очередь русским исследователям, «несуществующий мост между именем «Олег» и именем «Helge», да еще уверяют, что имя «Helge», которое на 200 лет моложе имени «Олег», послужило прототипом последнего». И если нет ничего общего между этими именами, резюмирует потомок викингов, «то вместе с именем пропадает и все основание считать князя Олега Вещего выходцем из Скандинавии», в связи с чем на полном основании называет его «мифическим шведом» {134}. Эта характеристика полностью относится и к княгине Ольге. И.М.Ивакин доказал, что в древности имена Ингвар и Игорь различались и не смешивались. «Будь они одинаковы, – задавался он резонным вопросом, – зачем бы князю Игорю Глебовичу давать сыну своему имя не Игорь, а Ингвар? Однако же сын у него не Игорь Игоревич, а Ингвар Игоревич» (Речь идет об Ингваре Игоревиче, княжившем в Рязани с 1195 г.). Ученый также указал, что если имя Игорь известно с X в., то имя Ингвар появилось на Руси «довольно поздно – в конце 12-го и в начале 13-го века» в результате брака рязанского князя Игоря Глебовича (ум. 1195) с норманкой {135}. Согласно разысканиям А.Г.Кузьмина, имени Олег «ближайшей параллелью» является иранское «Халег», восходящее к тюркскому «Улуг» (имя собственное и титул, означающий «старший», «великий»), а имя Игорь (Ингер иностранных источников) объясняется уральским «инг» – муж, герой, и связано оно было «либо с Ингрией (Ижорой русских летописей), либо с Ингарией – областью в Роталии» (Западная Эстония) {136}.
Тема ассимиляции скандинавов на Руси рождает просто немыслимые сюжеты. В 1970 г. А.М.Членов выразил несогласие с тем, что имя Святослава рассматривают как веский аргумент в пользу славянства Игоря и его династии. Он уверял, что наречение потомка норманнов славянским именем Святослав было «вопросом крупного политического значения», «манифестом о том, что династия считает себя отныне не варяжской, а славянской», «торжественным княжеским обещанием народу вести славянскую, а не варяжскую политику», и означало перевод династических имен «с варяжского на славянский». Для сохранения магии имени и родовой традиции было выбрано, благодаря «прозорливости» княгини Ольги, подходящее славянское имя, «оказавшееся с двойным дном», составные части которого калькировали собой скандинавские имена Олег-Хельг – «освященный», «посвященный» и Рюрик-Хререкр – «могучий славой», «славный» {137}. Насколько это объяснение сложно и громоздко, настолько же оно и невероятно, что видно и без вышеприведенных рассуждений Л.Грота. Р.Г.Скрынников, в свою очередь, кому-то горячо доказывал в конце прошлого столетия, что «предположение, будто киевская династия ославянилась раньше дружины, не более чем миф. Дружина князя, со времен Игоря пополнявшаяся славянскими воинами, подверглась ассимиляции в первую очередь» {138}.
В разговорах об ассимиляции скандинавов, этой, оказывается, единственной виновнице отсутствия и следа их пребывания на Руси до конца X в., не хватает самого малого: как согласовать подобные утверждения с непоколебимой убежденностью норманистов XX в. о нахождении на Руси буквально огромных масс скандинавов. Так, В.А.Мошин уверял, что археология открыла остатки целого ряда скандинавских поселений, «рассеянных по территории России вблизи ее великих речных путей», что остатки скандинавских поселений IX-X вв. «густой сетью покрывают целый край к югу от Ладожского озера... до Ильменя», что к югу от него «целая область кишит скандинавскими поселениями, рассеянным по всем важнейшим водным путям, идущим от Ильменя», что на территории Восточной Европы существовали норманские государства {139}. По мнению датского норманиста А.Стендер-Петерсена, шведы шли «с незапамятных времен беспрерывно из Швеции на восток...». Один лишь только «наплыв» скандинавских купцов в IX-XI вв. Новгород, по его словам, «был, по-видимому, огромный» {140}. Сегодня Р.Г.Скрынников, по сути возрождая теорию шведского археолога Т.Ю.Арне о норманской колонизации Руси, пытается внушить читателю, что киевским князьям в X в. «приходилось действовать в условиях непрерывно возобновлявшихся вторжений из Скандинавии», что на ее территории находилось «множество норманских отрядов», говорит о существовании на Руси большого числа «норманских каганатов», слившихся в «Восточно-Европейскую Нормандию» {141}.
Параллельно со Скрынниковым археолог В.В.Мурашова проводит в жизнь не только идею о большой иммиграционной волне из Скандинавии на Русь, но и прямо заключает, что «есть основания говорить об элементах колонизации» норманнами юго-восточного Приладожья {142}. Исследовательнице скандинавских источников Е.А.Мельниковой, только через их призму воспринимающей и русскую историю и нашу ПВЛ, также видятся «многочисленные» отряды викингов, якобы приходившие на Русь в IX в. {143}
Посыл о «множестве шведов» на Руси начал пропагандировать с недавних пор А.С.Кан {144}. Шведский археолог И.Янссон весьма осторожно, но все же предположил, что в эпоху викингов численность скандинавов на Руси могла равняться более чем 10% населения Швеции. Размер «шведской иммиграции», пишет он, «был настолько велик, а захороненных женщин (скандинавок. – В.Ф.) настолько много, что иммигрантами не могли быть только воины, купцы и др. В их числе должны были быть и простые люди». И своих соотечественники он переселяет Русь для несения военной службы, занятий ремеслом и даже сельским хозяйством «целыми коллективами», «большими группами, что предполагает их постоянное проживание, нередко семьями, в городах и иногда сельских местностях» {145}.
В отношении подобных разглагольствований, выходящих за рамки возможностей источниковой базы, С.А.Гедеонов хорошо заметил, что некоторые норманисты, «сознавая вполне совершенное отсутствие в начальном образовании русского общества каких бы то ни было следов норманизма, сводят бесчисленные толпы норманнов... на незначительное число, на горсть иноплеменной варяжской руси... немедленно исчезающей в русском море, не оставив по себе ни живой памяти, ни следа. Такое воззрение... не противоречит, по крайней мере, ни истории фактической, ничего не знающей о мнимом норманстве руси IX-XI веков, ни исторической логике, не допускающей призвания победными славяно-чюдскими племенами десятков тысяч вооруженных врагов» {146}. Современные норманисты забыли ту осторожность, которую проявляли в данном вопросе, например, Шлецер, Соловьев, Томсен, вынужденные, чтобы согласовать свои воззрения на этнос варягов с конкретными фактами, говорить о малочисленности скандинавов на Руси {147}. И если они и далее будут рассуждать в том же тоне, от которого отказались их предшественники в XIX в., то незаметно для себя скоро окажутся на пороге «открытия», которым в свое время осчастливил науку С.Сабинин, сказав, что масса норманнов, бывших на Руси, превосходила массу славян {148}.
Уже сейчас, беря во внимание цифры, которыми оперируют норманисты, все их расчеты численности скандинавов на Руси, получается, что в ее пределах до середины XI в. могли побывать сотни тысяч, если не миллионы шведов {149}. Так, согласно Э.Пирсону, в конце VIII в., т. е. перед началом эпохи викингов, население Скандинавии составляло примерно 2 миллиона человек. Но скоро, утверждает он, его численность «стала стремительно расти» {150}. Исходя из этих данных, можно спокойно предположить, причем, в сторону уменьшения, что население Швеции в IX-XI вв. колебалось в рамках 700 000-800 000 человек. С.А.Гедеонов, работая над дополнением к монографии «Варяги и Русь», полагал, что «все народонаселение Швеции едва ли превышало 500 000 голов...» {151} Выше были приведены слова Янссона, что численность скандинавов в Восточной Европе могла равняться как минимум 10% населения Швеции. А это означает, что в ее пределах ежегодно присутствовал каждый десятый швед, что составляло порядка 50-80 тысяч человек. И в таком количестве их пребывание было постоянным на протяжении не менее 200 лет (середина IX – середина XI в.), что в общей сложности дает астрономическую цифру норманнов, за это время побывавших, живших и усопших на Руси.
При проведении подобных расчетов можно взять куда более меньшую цифру ежегодных выходов варягов в земли восточных славян. Киево-Печерский патерик содержит известие, что варяг Шимон бежал к Ярославу Мудрому с 3 000 своих соплеменников {152}. Но и в этом случае викингов, якобы посещавших в течении как минимума 200 лет Древнерусское государство, набирается не меньше полмиллиона человек. И даже, если принять во внимание предположение ряда современных норманистов, что реальным для подсчета численности варяжских контингентов IX-X вв. кажутся позднейшие данные о приглашении варягов Ярославом Мудрым в количестве 1 000 человек (1015 г.) {153}, то и при этом условии цифра скандинавов, побывавших в восточнославянской державе в течение двух столетий, все равно выглядит грандиозной. При численности населения Киевской Руси (около 1000 г.) в 4,5 миллиона {154} эта огромная масса скандинавов, носителей абсолютно отличной от славян культуры, оставила бы столько следов своего пребывания в русских землях, что они бы встречались и по сей день на каждом шагу и в большом количестве. Но этого не наблюдается совершенно. Все ставят на свои места источники. По словам С.Лесного: «Как только мы подходим к эпохе писанной, т. е. достоверной истории, так все следы норманнов завоевателей с их факториями, гарнизонами и т.д. исчезают...» {155}
[15] Мнение Гедеонова о завоевании викингами эстонских земель в начале X в. также представляет одну из уступок ученого как норманизму, так и всеобщей уверенности во всеохватных, чуть ли не планетарных действиях норманнов.
По состоянию на 1968 г. на территории Эстонии обнаружено 75 находок с 1645 английскими денариями, на территории Латвии – 22 находки со 176 монетами, на территории Древнерусского государства – 89 находок с 3 350 монетами, причем, эстонские находки, по сравнению с латвийскими и русскими, характеризуются более высоким процентом этих денариев. Наибольшее количество найденных в Восточной Европе английских монет чеканено в правление Этельреда II (979-1016) и Канута (1016-1039). В эстонских находках преобладают монеты первого (в том числе подражания им скандинавского происхождения), в русских второго правителя (в том числе датские им подражания). Исходя из чего В.М.Потин заключает, что, во-первых, существовали прямые русско-датские контакты, и, во-вторых, что «для Древнерусского государства экономические контакты со странами Скандинавского полуострова не имели столь важного значения, как для Эстонии». Он также отмечает, что в русских кладах второй четверти XI в., по сравнению с предыдущей четвертью, число английских денариев «во много раз возрастает и по своей абсолютной величине значительно превосходит количество английских монет в находках Эстонии». Вместе с тем ученый подчеркивает, что по количеству собственно датских монет Русь занимает одно из первых мест в средневековой Европе. И начинают они появляться в кладах второй четверти XI в., резко возрастая в находках 1051-1100 годов. Но при этом монеты Свена Твескега (985-1014) в них абсолютно отсутствуют, что и позволило Потину начало наиболее тесных контактов Руси с Данией отнести ко времени правления Канута. Датские монеты попадали в Восточную Европу все тем же торговым путем, идущим из славянского Поморья на Русь через Готланд {156}.
Данные, приведенные В.М.Потиным в отношении распределения английских денариев в эстонских и русских кладах, преобладание в первых монет Этельреда II и их скандинавских подражаний, его вывод об экономических связях конца X – начала XI в. Скандинавии с Эстонией, но не с Русью, абсолютно согласуются с важными наблюдениями А.Г.Кузьмина. Историк, говоря о появлении в среде варягов-наемников шведов лишь при Ярославе Мудром, акцентирует внимание на том факте, что во времена Владимира герои саг «действуют в Прибалтике, на побережье прежде всего Эстонии», и далее Эстонии их действия «не простираются» {157}. Таким образом, нумизматический материал и показания саг совпадают полностью и точно датируют появление шведов в Восточной Прибалтике лишь концом X века. О времени их проникновения на Русь также говорит нумизматика: датские, шведские и норвежские монеты начинают оседать в русских кладах не ранее второй четверти XI в., хотя их регулярная чеканка началась в 90-х гг. предшествующего столетия. Нет сомнения, что первыми из скандинавов в пределы Древнерусского государства прибыли датчане. И лишь затем, в связи с установлением более тесных связей Руси со Швецией, к ним присоединяются шведы.
Важное значение в этом плане имеет свидетельство Титмара Мерзебургского. Он сообщает со слов участников взятия польским королем Болеславом Храбрым в 1018 г. Киева о наличии в нем «стремительных данов» {158}. Присутствие в столице Руси именно датчан объясняется традиционными и широкими связями Руси с Южной Балтикой, откуда они могли прибыть совместно с давними торговыми и политическими партнерами восточных славян – с их южнобалтийскими сородичами. Прибыть по просьбе Ярослава Мудрого, неоднократно призывавшего варягов для борьбы вначале со своим отцом, а затем с двоюродным братом Святополком Окаянным: 1015 г. «Ярослав же послав за море, приведе варягы, бояся отца своего...»; после гибели этих наемников от рук новгородцев он вновь собрал «варяг, тысячю, а прочих вой 40 000, и поиде на Святополка...»; в 1016-1018 гг. Ярослав, изгнав Святополка, сидит в Киеве; в 1018 г. Святополк со своим тестем, польским королем Болеславом Храбрым идет на Ярослава. Тот, выступив против неприятелей и «совокупив русь и варягы и словене», терпит поражение, уходит в Новгород, откуда «хотяше бежати за море», но был остановлен новгородцами. Собрав деньги, они «приведоша варягы, и вдаша им скот, и совокупи Ярослав воя многы» {159}. В Пегауских анналах читается известие о нахождении на Руси в первой четверти XI в. Германа, сына поморского князя, обосновавшегося в Дании, и датской королевы. Как предположил М.Б.Свердлов, Герман прибыл в русские пределы «не один, а со спутниками датчанами», о которых, возможно, и говорил Титмар Мерзебургский {160}.
Столкновение Болеслава с Ярославом объясняется не только родственными связями первого со Святополком Окаянным. В конце X в. Польша на некоторое время присоединяет земли южнобалтийских славян-поморян между Вислою и Одером и южной группы полабских славян – лужичан и мильчан, угрожает их соседям. Ратаре и лютичи, заключив в 1003 г. с немцами союз и дружбу против Польши, вынуждают последнюю через год покинуть лужицкую территорию (вскоре она вновь их захватывает). Около 1010 г. отпало от Польши и Поморье. В 1017 г. против Болеслава выступили немцы, лютичи, чехи {161}. Тогда же Болеслав принимает активное участие в предприятии Святополка, не только тем самым поддерживая своего зятя, но и пытаясь избавиться от Ярослава Мудрого, союзника балтийских славян. Последующая история, кстати, дает примеры подобной связи Руси с Южной Балтикой. Герборд, оставивший одно из жизнеописание Оттона Бамбергского (1050-е – 1139), рассказывает, как польский король Болеслав Кривоустый (1102-1139), долго воюя с русскими, которых поддерживали половцы и поморяне, захватил в плен перемышльского князя Володаря Ростиславича (в источнике, «короля русского»), И с ним был заключен мир, по которому русские брали обязательство не оказывать помощь поморянам {162}. Контакты русских земель с Поморьем продолжали сохраняться даже с потерей им самостоятельности в 1180 г., что объясняется их давностью и устойчивостью. В 1217 г. полоцкий князь Борис Давидович женился «вторым браком на Святохне, дочери померанского князя Казимира...» {163} В Ермолаевском списке Ипатьевской летописи сказано, что польский король Пшемысл II был убит (1296) за смерть своей первой жены Лукерий, которая «бо бе рода князей сербских, с кашуб, от помория Варязкаго от Стараго града за Кгданском» {164}. Эту приписку к событиям начала XIV в. А.Г. Кузьмин датирует тем же временем {165}. И она свидетельствует, что в XIII-XIV вв. русские продолжали бывать в Поморье, иначе не понятна ни их удивительная осведомленность в поморских событиях, ни их хорошее знание его территории. На тесную связь Руси с Поморьем указывают также находки многочисленных вещей работы русских ремесленников в его пределах {166}.
Балтийских славян и датчан связывало многое: и соседство проживания, и соперничество (в том числе и боевое), и дружба, и что-то еще. Датчане, например, не чурались обращаться за помощью к богам южнобалтийских славян. Так, Саксон Грамматик, говоря о боге Святовите, который пользовался особенным почетом у славянского населения Балтики (его храм находился в Арконе, на острове Руяне-Рюгене), подчеркивает, что «даже соседние государи посылали ему подарки с благоговением: между прочими, король датский Свенон, для умилостивления его, принес в дар чашу искуснейшей отделки...» {167} Часто они выступали против своих врагов совместно. Уже в знаменитой битве при Бравалле датчане и южнобалтийские славяне плечом к плечу сражались со шведами и норвежцами, многократно объединялись они и против агрессии немцев в IX в. Так, к датчанам, начавшим в 808 г. борьбу против немцев, присоединились славяне. Людовику Благочестивому в 838 г. доносили, что последние «вместе с датскими викингами» опустошают немецкие земли. В 845 г. они же, объединив усилия, разграбили Гамбург. Тоже самое наблюдается и в X в. Особенно сплотила их во второй половине века борьба с христианством, насаждаемым немцами. Издавна датчане и славяне вместе ходили и в морские набеги. Так, около 940 г. они напали на Норвегию, причинив ей столько вреда, что норвежская флотилия, преследуя неприятеля, вслед за ними вошла в Балтийское море {168}. Датско-английский король Канут Великий (ум. 1035) был потомком ободритских князей по материнской линии. В Дании нашел себе приют будущий князь (с 1043) ободритов Готшалк, ставший затем родственником короля. С его именем связано возникновение славянского государства на Южной Балтике, опиравшегося на поддержку Дании {169}.
Общей историей двух народов является Йомсборг. Датский король Гаральд (936-986), захватив Волин в землях поморских славян, выстроил здесь крепость, названную по скандинавскому имени Волина Юмна или Йомсборг. Вскоре она перешла на сторону славян, сделалась убежищем всех «приверженцев язычества», и в ней пребывали как датчане, так и славяне. Именно в ней, по утверждению А.Ф.Гильфердинга, готовилось противодействие, которое восстановило в Поморье язычество. Йомсборг был разрушен датским королем Магнусом {170}. Возможно, что датчане, пребывание которых засвидетельствовал в 1018 г. в Киеве информатор Титмара, имели самое непосредственное отношение к «йомским витязям», воевавшим и против датчан, и против норвежцев и, выходит, на стороне Ярослава Мудрого против Святополка Окаянного, за которым стояла Польша, стремившаяся покорить поморских славян, следовательно, и Волин и Йомсборг. То, что варяги явились на призыв Ярослава Мудрого именно с южных берегов Балтийского моря, говорит присутствие среди них колбягов. Колбяги не названы в качестве составной силы войска Ярослава, но упомянуты в Краткой Русской Правде (в статьях 10 и 11), появление которой обычно связывают с новгородскими событиями 1015 г., и которая была призвана регулировать отношения между новгородцами и варягами. В.Н.Татищев в колбягах видел поморян, жителей г. Колобрега: «мню, что сии от града Колберг померанского колбяги названы» {171}, таковыми их считает и А.Г.Кузьмин {172}. Как заключает В.М.Потин, объяснение колбяги от Колобрега «в свете оживленных поморско-русских связей может оказаться наиболее убедительным» {173}.
[16] В Сказании о призвании варягов (Ипатьевская летопись) в качестве первого города, где сел по своему прибытию в Северо-Западную Русь Рюрик, названа Ладога: «И изъбрашася трие брата с роды своими, и пояша по собе всю русь, и придоша к словеном первее и срубиша город Ладогу. И седе старейший в Ладозе Рюрик, а другии Синеоус на Белеозере, а третьи Трувор в Изборьсце. И от тех варяг прозвася Руская земля. По дъвою же лету оумре Синеоус и брат его Трувор, и прия Рюрик власть всю один, и пришед к Илмерю, и сруби город над Волховом, и прозваша и Новъгород. И седе ту княжя и раздая мужем своим волости и городы рубити, овому Полътеск, овому Ростов, другому Белоозеро» {174}. Ладога также читается в двух списках Радзивиловской летописи {175}. Но ряд летописей дает иную версию его прибытия на Русь. В сгоревшей Троицкой летописи, примыкающей вместе с Радзивиловской к традиции Лаврентьевской редакции ПВЛ, как и в Лаврентьевском списке, имелся пропуск, «но, – свидетельствует Н.М.Карамзин, – вверху приписано над именем Рюрик: «Новг...» {176} Составители Новгородской первой летописи (НПЛ) младшего извода и нов-городско-софийских сводов XV в. Рюрика, конечно, сразу же помещают в Новгороде {177}.
Согласно противоречивым показаниям источников распределились мнения ученых, большая часть которых все же склонялась в пользу Новгорода, хотя приоритет Ладоги в этом вопросе отстаивали весьма именитые историки, например, В.Н.Татищев, Г.Ф.Миллер, М.В.Ломоносов, С.М.Соловьев и другие. Представление о первичности новгородского варианта Сказания о призвании варягов окончательно утвердилось в науке благодаря трудам А.А.Шахматова {178}. К этой мысли его привела ошибочная убежденность в том, что НПЛ младшего извода отражает гипотетический Начальный свод 1095 г., якобы легший затем в основу ПВЛ {179}. В конце 60-х гг. прошлого века А.Г.Кузьмин доказал, что подлинной является все же его ладожская версия, отредактированная новгородским летописцем, не желавшим отдавать старейшинство «пригороду» Ладоге и заменившим ее поэтому Новгородом {180}.
[17] Этот же вопрос в равной, а может быть, даже в большей мере следует переадресовать советским и современным археологам, «материализующим» норманизм в науке. В советское время, когда вся борьба с ним сводилась лишь к дежурным штампам, когда дело дальше обвинений его в «лженаучности» и «антинаучности» не шло, археология являлась «главным прибежищем норманизма» {181}. Интерпретация древностей археологами, при их полной убежденности в норманстве варягов, была и остается тенденциозной, и продолжает множить до сих пор фиктивные тому доказательства. А ложная посылка всегда рождает ложные выводы. Отсюда и «огромное количество» скандинавских предметов «во множестве географических пунктов» Руси {182}, и что присутствие скандинавов на территории восточных славян документировано «большим числом норманских древностей...» {183} Смысл подобных утверждений, абсолютно не согласующихся с фактами, откровенно пояснили норманисты Т.Н.Джаксон и Е.Г.Плимак. По их словам, до сих пор в науке нет четкого понимания того, что почти полное отсутствие скандинавских заимствований в русском языке – такой же факт, как и множественность следов скандинавского присутствия на Руси в археологических материалах, а не аргумент против норманского происхождения летописных варягов {184}.
Тезис о множественности скандинавских следов на Руси, якобы зафиксированных археологами, весьма проблематичен. Если поверить археологам, резонно замечает А.Г.Кузьмин, что норманны появились на Верхней Волге на столетие ранее славян и долгое время численно превосходили последних, то следует поставить вопрос: каким образом из синтеза германской и угро-финской речи родился славяно-русский язык? Видимо, резюмирует историк, что-то в этих построениях не так: либо факты, либо осмысление. Его же подчеркивает, что даже в областях, где норманны якобы появились намного раньше славян, да к тому же будто бы преобладали над последними, «мы не находим «следов» норманских языков, а «варяжские» боги IX-X вв. – это Перун и Велес, но никак не Тор и Один...» {185} И если продолжать русские древности относить к норманнам, которые не имели к ним отношения, то на Западе, где действительно бывали скандинавы и где действительно существовали их многочисленные колонии, норманских древностей будет значительно меньше, чем на Руси, где викинги стали появляться лишь в конце X в. и могли принимать какое-то участие в русских событиях лишь на протяжении очень короткого времени: с 80-х гг. X в. до середины XI столетия. Как отмечают сами же норманисты, «бульшая часть скандинавских древностей на Руси датируется серединой – второй половиной X в.», совпадают «со временем консолидации (а не возникновения) Древнерусского государства...» {186}
Истинное же число скандинавских предметов в русских древностях просто мизерно и в огромной массе других археологических находок практически равно нулю, что говорит о случайном характере их попадания в земли восточных славян. И это видно прежде всего на материалах Киева и Новгорода, главных городов Руси, где норманнов должно было быть особенно много, и где они, конечно, должны были оставить массу следов своего пребывания. Но эти следы отсутствуют. Так, в Киеве, например, даже «при самом тщательном подсчете», подчеркивает археолог П.П.Толочко, количество скандинавских изделий не превысит и двух десятков, причем ни одно из них не имеет отношение к IX веку {187}. Эта цифра особенно примечательна на фоне утверждений зарубежных ученых Т.Ю.Арне, И.Брёндстеда, Э.Пирсона и других об основании Киева норманнами, упорных разговоров, в том числе и российских ученых (особенно В.Я.Петрухина), о скандинавском характере многих погребений киевского некрополя, уверенности Е.А.Мельниковой в том, что «вместе с Олегом в Киеве, вероятно, впервые появился постоянный и значительный контингент скандинавов» {188}. О научной цене подобных утверждений также полно говорит антропологический материал. Т.И.Алексеева, специально изучавшая киевские погребения с трупоположением X в., подчеркивает, что «оценка суммарной краниологической серии из Киева... показала разительное (курсив мой. – В.Ф.) отличие древних киевлян от германцев» {189}.
В отложениях Новгорода предметов, увязываемых со скандинавами, найдено еще меньше, чем в Киеве. Причем, весьма показателен как их характер, так и их поздняя датировка: кость с датской рунической надписью (алфавит первой четверти XI в.), железная посеребрянная крученная шейная гривна (конец X в.), черепаховидная фибула (первая четверть XI в.), круглая ажурная подвеска с зооморфным орнаментом в стиле Еллинге (первая четверть XII в.), монетовидные привески с изображением «молоточков Тора» (середина X – начало XI в.), привески-крестики с изображением распятия (конец X – начало XI в.), бронзовая накладка на односторонний гребень (рубеж X-XI вв.), бронзовая рукоятка ножа с изображением человеческой фигуры (конец X – начало XI в.), ажурная накладка с плетенным орнаментом (середина XII в.), некоторые типы массивных литых браслетов, костяные односторонние гребни с орнаментом, ланцетовидные наконечники стрел, орнаментированная рукоятка меча, орнаментированный боевой топорик, обувь скандинавского типа. Вот и весь перечень, по заключению М.В.Седовой, в процентном отношении ничтожный «по сравнению с находками славянских, финно-угорских и балтских изделий...» {190} Он становится еще более ничтожным, если принять во внимание, что т.н. «крестики скандинавского типа» имеют чисто русское происхождение и не являются христианскими символами. По предположению В.В.Седова, они изготавливались в Новгороде и датируются в основном XI – первой половиной XII в. {191}
Итак, с одной стороны, всего несколько скандинавских вещей, с другой, разглагольствования типа того, что Новгород был основан скандинавами {192}, или что он являлся «основной базой норманнов в Восточной Европе» {193}, или что в нем в конце X – первой половине XI в. находился постоянный «больший или меньший контингент скандинавов: дружинников новгородских князей и наместников великого киевского князя, новоприбывших искателей богатства и славы, торговых людей» {194}. Практическое отсутствие скандинавских вещей в слоях Новогорода тем более поразительно, что для его культурных напластований характерна, отмечают специалисты, «исключительная насыщенность древними предметами» {195}. Такая насыщенность, что «коллекция предметов, собранная на раскопках в Новгороде за 1932-2002 гг., насчитывает в общей сложности более 150 тыс. изделий...», причем в это число не включен массовый керамический материал {196}. И в этой массе всего лишь несколько, по верной характеристике Е.А.Мельниковой, «отдельных случайных находок» {197}.
Археолог В.Л.Янин подчеркивает, что женские украшения в Новгороде не испытали никакого скандинавского влияния. Скорее, уточняет он, можно говорить о моде на угрофинские изделия {198}. Хотя отечественные и зарубежные ученые, прежде всего археологи говорят о постоянном проживание скандинавов на Руси, причем, а эти слова в первую очередь относятся к Новгороду, «нередко семьями, в городах и иногда сельских местностях», о большом числе захороненных скандинавок {199}. Но и с этой «женской» стороны, как правило, более подверженной постороннему воздействию, новгородские древности ничего не дают для норманской теории. Поэтому рассуждать так, как рассуждают норманисты, что «скандинавская колонизация и владычество оставили на Западе прочные следы в топонимике и политико-правовой терминологии. Ни того, ни другого на Руси не наблюдалось. Зато скандинавские изделия в раскопках здесь гораздо обильнее, чем на Британских островах» {200}, значит, все также продолжать идти в разрез с фактами и выдавать желаемое за действительное, приписывать скандинавам то, к чему они не имеют никакого отношения.
В связи с тем, что древности Новгорода работают против норманской теории, в трудах ее приверженцев сейчас принято говорить о его позднем возникновении. По причине чего он, конечно, не мог быть столицей варяга Рюрика, что и должно объяснять, по замыслу «омолодителей» древнейшего русского города, практическое отсутствие скандинавских предметов в его культурных слоях. Но археолог Г.П.Смирнова, при этом несколько осторожничая, датировала древнейший слой Неревского раскопа Новгорода по представленному в нем керамическому материалу, имеющему, надо заметить, аналогию только на Южной Балтике (в Мекленбурге), временем не позднее начала X в., а всего вероятнее, – конца IX столетия. Она указывала, что до 28 яруса, датированного 953 г., имеются мощные доярусные напластования, которые «могли отложиться лишь за многие годы и десятилетия до сооружения самой ранней деревяной мостовой». Поэтому, справедливо заключала исследовательница, нет никаких оснований новгородскую керамику, аналогичную формам, которые на многих славянских памятниках относят к VIII-IX вв., привязывать к стратиграфии раскопа и, следовательно, к середине X в. {201}
Всей сутью ранних известий летописи Новгород предстает одним из древнейших городов Руси. Летопись содержит детали, которые никак не могут быть объявлены «учеными домыслами летописца». В ПВЛ под 882 г. в Сказании о призвании варягов отмечается, что Олег, сев в Киеве, «устави варягом дань даяти от Новагорода гривен 300 на лето, мира деля, еже до смерти Ярославле даяше варятом» {202}. В этих словах можно увидеть не только датирующий признак занесения сообщения в летопись, но и констатацию факта существования Новгорода, равно как и Киева, в IX веке. В НПЛ говорится о 300 гривнах дани от Новгорода варягам, но только установленной Игорем, подчеркивая при этом, что «еже не дають» {203}. Современник киевского князя Игоря византийский император Константин VII Багрянородный в своем сочинении «Об управлении империей» (середина X в.) отмечает в прошедшем времени, что в Новгороде «сидел» его сын Святослав {204}. А это опять же свидетельствует не только в пользу существования города до середины X в., но и его значимости как второго после Киева, что, конечно, немыслимо для какого-то новообразования, говорит о давно устоявшейся традиции подобной «иерархии» этих центров. С.А.Гедеонов выражал полную уверенность в том, что император пользовался какими-то ранними известиями о Руси, правомерно обращая внимание на то обстоятельство, что «после 945 года, т.е. после смерти Игоря, не было повода рассказывать о том, что сын Игоря Святослав когда-то сидел на княжении в Новгороде». Трудно также допустить, заключает он, «чтобы в 948-952 годах Константин не упомянул о счастливой войне греков с русью в 941» {205}. Да и появление первой мостовой в 953 г. знаменует собой, конечно, не возникновение города, а давнее его сложение, характеризует собой зрелость его органов управления, к чему обычно лежит весьма долгий путь.
В качестве предшественника Новгорода, точнее, на его место в русской истории IX – первой половины X в сейчас выдвинуто Рюриково городище (в двух км к югу от Новгорода), по словам норманистов, «предновгород», где якобы находилась не только столица варяга Рюрика, но и даже «штаб-квартира» норманского каганата русов еще дорюрикова времени {206}. И это сделано лишь только на том основании, что изделия «скандинавского облика» появляются на городище во второй половине IX в., а, возможно, и ранее. Но против такого вывода восстает хотя бы элементарная логика, ибо археологи-норманисты вместе с тем отмечают, что в его древностях представлен, по сравнению с «изделиями «скандинавского облика», куда более значимый материал (керамика, хлебные печи, двушипные втульчатые наконечники стрел), связывающий жителей городища с Южной Балтикой. Е.Н.Носов заостряет внимание на том факте, что часть раннегончарной посуды городища (X в.) находит аналогии среди керамики севера Польши и менкендорфской группы на севере Германии и составляет часть керамического комплекса во многих поселениях Северной Руси {207}.
При этом шведский археолог И.Янссон уточняет, что только один или два фрагмента городищенской посуды могут быть связаны со скандинавскими керамическими формами. Он же подчеркнул, что структура Рюрикова городища кажется восточноевропейской: укрепленное поселение на вершине холма и примыкающее открытое (или менее укрепленное) поселение. Такие поселения, констатирует ученый, в Скандинавии неизвестны {208}. Но, делая упор на то, что подавляющая часть сохранившихся металлических деталей мужской и женской одежды оказывается скандинавской, на то, что, имеется богатый и разнообразный материал, якобы связанный со скандинавским культом и магией, он приходит к выводу, «что большая и влиятельная часть населения была скандинавской по происхождению или тесно связана со скандинавами» {209}. Выше уже назывались те факторы, что привели к появлению скандинавских вещей в русских древностях, и по ним нельзя судить об этносе их обладателей. Но если следовать логике норманис-тов, выставляющих скандинавские находки в Восточной Европе «в качестве одного из наиболее весомых аргументов» пребывания здесь норманнов, «то и Скандинавию, — справедливо замечает А.Н.Сахаров, — следовало бы осчастливить арабскими конунгами, поскольку арабских монет и изделий в кладах и захоронениях нашли там немало» {210}.
[18] Пургасова Русь – одна из многих Русий, существование которых в Восточной и Западной Европе (но только не на Скандинавском полуострове) зафиксировано источниками. В Лаврентьевской летописи под 1228 г. читается, что владимиро-суздальский великий князь Юрий Всеволодович в большой силе пошел на мордву, а муромский князь Юрий Давыдович «вшед в землю Мордовьскую Пургасову волость пожгоша жита и потравиша и скот избиша, полон послаша назад. А мордва вбегоша в лесы своя в тверди, а кто не вбегл тех избиша наехавше Гюргеви молодии...». В Толстовском списке Никоновской летописи эта информация дана с небольшим добавлением («села пожгошя, живущих же в волости Пургасове посекоша мечем нещадно, а прочих в плен поимаша и послаша во свояси. Мордва же слышавше вбегоша в лесы в тверди свое, а котории не убегоша, и тех избиша»). В апреле 1229 г., продолжает Лаврентьевская летопись, «придоша мордва с Пургасом к Новугороду, и отбишася их новгородци; и зажегше манастырь святое Богородицы и церковь иже бе вне града, того же дни и отехаша прочь поимав свое избьеныя болшия. Тогож лета победи Пургаса Пурешев сын с половци, и изби мордву всю и русь Пургасову, а Пургас едва вмале оутече» {211}.
В этих известиях обращают на себя внимание несколько весьма принципиально важных фактов. Во-первых, «Пургасова Русь» воюет как с русскими князьями, так и с собственно мордвой, возглавляемой Пурешом. Во-вторых, особенная ожесточенность в противостоянии русских князей и «Пургасовой Руси»: первые нещадно избивают ее население, а Пургас уничтожает монастырь. В-третьих, имя последнего на эрзянском языке означает Пургас-пурьгине-гром, что заставляет вспомнить славяно-русского Перуна-громовержца. В-четвертых, отсутствие аналогов «Пургасовой Руси» в названии колонизуемых русских земель. Тем более, если учесть, что термин «Русь» стал прилагаться к Волго-Окскому междуречью только после монгольского нашествия. А.А.Шахматов подчеркивал, что «вообще с середины XIII в. имя Русь начинает употребляться для обозначения Суздальской области» {212}. Все перечисленное позволяет говорить о «Пургасовой Руси» как об этническом образовании, уходящим в глубокое прошлое, причем даже в XIII в. не имевшем «отношения ни к Киеву, ни к Владимиро-Суздальской земле» {213}. На возможную локализацию «Пургасовой Руси» и ее истоки указывают антропологические данные эрзянского населения, проживающего в бассейне р. Суры (прежде всего в восточных районах современной Мордовии). По своим признакам оно особенно близко к «ильменскому типу», который был выделен среди русских, живущих в окрестностях Ильменского озера. Специалисты также отмечают, что жители названной территории Мордовии имеют сходство и с некоторыми группами западнобалтийского типа, в особенности с эстонцами Пярнуского района (Западная Эстония) {214}. Именно в западной части Эстонии А.Г.Кузьмин видит одну из прибалтийских Русий – Роталию-Русь (см. коммент. [22] и [54]). Недавно Е.С.Галкина и А.Г.Кузьмин высказали предположение, что «Пургасова Русь» – реликт русов-алан Подонья (Руссии-тюрк) {215}.
[19] Пояснение летописи, что «норики – это и есть славяне», ведет к Норику, к району Верхнего Дуная, что между верхним течением Дравы и Дунаем (часть территории нынешней Австрии и северных районов бывшей Югославии). В ПВЛ еще один раз, но в иной редакции, славяне также увязываются с Нориком. Проводится эта мысль в Сказании о славянской грамоте, помещенном в летописи под 6406 г. Как полагали А.А.Шахматов и Н.К.Никольский, Сказание было создано западными славянами в IX-X вв. А.Г.Кузьмин не исключает, что этот западно- или южнославянский памятник мог быть подвергнут, перед своим приходом на Русь, редакции в Болгарии. В конце X в. его привлек киевский летописец, создававший первый исторический труд о начале Руси, который в середине XI столетия был включен в состав ПВЛ. При этом историк убежден, что Сказание не избежало переработки летописца, включавшего его в летопись, и ему принадлежит несколько комментариев {216}.
Первый из них Кузьмин видит в словах: «Бе един язык словенеск: словени, иже седяху по Дунаеви, ихже прияша угри, и морава, и чеси, и ляхове, и поляне, яже ныне зовомая русь. Сим бо первое преложены книги, мораве, яже прозвася грамота словеньская, яже грамота есть в Руси и в болгарех дунайских» {217}. Как рассуждает далее ученый, летописец не только отождествлял русь с полянами («поляне, яже ныне зовомая русь»), но и поместил прародину всех славян и русов в Иллирии: «ту бо есть Илюрик, егоже доходил апостол Павел, ту бо беша словене первое» {218}. Иллирия – римская провинция, примыкавшая к Адриатическому морю и включавшая в себя ряд областей северо-запада Балкан, в том числе Паннонию и Норик. Чешские и польские хронисты, напротив, прародиной славян считали не Норик, а Паннонию, Средний Дунай (современная Западная Венгрия). Так, например, Великопольская хроника, ссылаясь на неведомые сейчас «древние книги», утверждает, «что Паннония является матерью и прародительницей всех славянских народов...» Именно оттуда хроника выводит Руса, родоначальника русских {219}.
В V-VIII вв. западноевропейские источники называли территорию Норика Ругиланд или Ругия, а в Х-ХП вв. – Ругия, Рутения, Руссия, Рутенская марка, Рутония. Как подытоживает Кузьмин, в Норике славян «не нашли, но страна ругов-русов-Ругиланд находилась именно там» и представляла собой одно «из главных политических образований, оставленных ругами». О Дунайской Руси «хорошо знали и на Западе, и на Востоке, почему часто никаких пояснений и не делалось» {220}.
Полянославянскую концепцию начала Руси («поляне, яже ныне зовомая русь»), противостоящую варяжской («от тех варяг прозвася Руская земля»), выявил в летописи историк Н.К.Никольский, говоря при этом, что на рубеже XI-XII вв. в Киеве «существовали неодинаковые опыты построения древнейшей русской истории». Не считая полянославянскую концепцию достовернее варяжской, он отметил особенную тенденциозность последней {221}. Противоречия между этими концепциями А.Г.Кузьмин, считая их достоверными, снимает тем, что, по его мнению, в Среднем Поднепровье оказались как выходцы из Норика-Ругиланда (гунны, руги и независимо от них ветви славян), так и с южного побережья Балтийского моря, только первые появились в Восточной Европе в VI в., тогда как вторые – в IX столетии. Соперничество на страницах летописи двух концепций, замечает историк, «как-то связано с этими двумя волнами». Обращает он внимание и на тот важный факт, что в НПЛ младшего извода и в «Слове о полку Игореве» иначе, нежели в ПВЛ, передано начало Руси, «причем речь идет не просто о более раннем или более позднем, а о совсем другом представлении об этом «начале». Историк, основываясь на археологических данных, говорит о двух заметных волнах переселений с Дуная в Поднепровье: в VI и в середине X века. Причем, замечает он, именно с последней волной миграции и «связана летописная версия о выходе славян вообще и полян-руси, в частности, из Норика-Ругиланда» {222}.
[20] Юлинцы и щетиняне – жители южнобалтийских городов Волина (немцы именовали его Winetha, Julin, Jumne, Jumneta) и Штетина (Щетина), расположенных в землях славян-поморян. Первый из них находился в юго-восточной части одноименного острова, лежащего против устья Одры. Источники именуют его величайшим из городов Европы. Адам Бременский и Гельмольд называют его «знаменитейшим», самым большим городом «из всех имевшихся в Европе городов, населенный славянами вперемешку с другими народами, греками (т. е. русскими. – В.Ф.) и варварами. ...Этот город, богатый товарами различных народов, обладал всеми без исключения развлечениями и редкостями» {223}. В XI в. балтийская торговля, достигшая цветущего состояния, была сосредоточена в Волине, и он, как утверждали на Западе, уступал только одному Константинополю. Штетин западноевропейские авторы представляют старейшим городом в Поморье, представляют его «матерью» и главой всех поморских городов. Ему принадлежал, пишет А.А.Котляревский, «почин в общественных делах и ее решениям покорялись младшие сверстники» {224}, что и объясняет позицию волинцев. И действительно, они приняли крещение от Оттона Бамбергского сразу же после того, как крестились жители Штетина.
[21] Речь идет о руянах, живших на о. Руяна-Рюген, которые, по словам западноевропейских хронистов, жреца своего «почитают больше, чем короля». Они первенствовали «среди всех славянских народов» и были единственными из южнобалтийских славян, во главе которых стоял «король». Именно к руянам обращаются из всех славянских земель за ответами и ежегодно доставляют средства для жертвоприношений {225}. В западноевропейских источниках руяне именуются ругами, русскими. По мнению А.Г.Кузьмина, они изначально относились к вендо-герульским племенам, большинство из которых восприняло славянский язык {226}.
[22] В данном случае ученый недооценил свидетельство С.Герберштейна о Вагрии, как о родине варягов, хотя оно полностью согласуется с показаниями ПВЛ и других источников, да и с его же собственной концепцией. Характеризуя Вагрию, он пишет – эта «область вандалов со знаменитым городом Вагрия», граничившая с Любеком, заселенная славянами, которые «были могущественны, употребляли, наконец, русский язык и имели русские обычаи и религию. На основании всего этого мне представляется, что русские вызвали своих князей скорее из вагрийцев, или варягов, чем вручили власть иностранцам, разнящимся с ними верою, обычаями и языком» {227}. По его же словам, в России «про варягов никто не мог сообщить мне ничего определенного, помимо их имени». Вместе с тем ему была известна «августианская» легенда, которую он охарактеризовал как «бахвальство русских» {228}. Но бахвальством посол назвал лишь действительно фантастическую генеалогию, выводившую трех братьев-варягов «от римлян». А вот само указание легенды на южнобалтийское побережье как на родину варягов могло послужить для него отправной точкой в разысканиях, ответ на которые он нашел в Западной Европе, точнее в Дании.
Данию Герберштейн посетил за несколько месяцев до своей первой поездки в Россию: в январе-апреле 1516 года. Проезжая по ее территории, значительную часть пути он проделал по Вагрии {229}, с 1460 г. входившей в состав датского королевства. Как следует из его рассказа, он беседовал с потомками вагров, впоследствии сблизив их с русскими по общности языка и обычаев. От них же Герберштейн почерпнул сведения о прошлом Вагрии, которые затем соотнес с известиями русских источников, что и позволило ему поставить знак равенства между варягами и ваграми.
Хотя ПВЛ нигде прямо не говорит о родине варягов, она в то же время указывает на нее. В ее недатированной части граница расселения варягов на западе локализуется довольно четко: они сидят по Варяжскому морю «к западу до земле Агнянски...» {230} «Земля Агнянска» – это не Англия, а южная часть Ютландского полуострова, на что впервые указали в XIX в. антинорманисты Н.В.Савельев-Ростиславич и И.Е.Забелин и к чему склонялся корифей норманизма В.Томсен {231}. В юго-восточной части полуострова обитали до своего переселения в Британию англо-саксы (отсюда «земля Агнянска» летописи, сохранившаяся в названии нынешней провинция Angeln земли Шлезвиг-Голштейн ФРГ), с которыми на Балтике долго ассоциировались датчане. С англо-саксами на востоке соседили «варины», «вары», «вагры», населявшие Вагрию. Именно вагры, о чем на протяжении веков говорилось в историографии, а ныне доказано историком А.Г.Кузьминым, и были собственно варягами. Именем варягов будут затем называть на Руси всю совокупность славянских и славяноязычных народов, проживавших на южном побережье Балтики от польского Поморья до Вагрии включительно {232}, а еще позднее – многих из западноевропейцев {233}. На выход варягов со славянских берегов Балтийского моря указывают, как уже говорилось, и славянские названия городов, основанных ими в Северо-Западной Руси – Новгород, Белоозеро, Изборск.
Традицию ПВЛ, видящую в варягах славянских насельников Южной Балтики, продолжают русские памятники XV-XVIII веков. Так, «Сказание о князьях владимирских» (вторая половина XV в.) впервые прямо называет родину варягов: по совету Гостомысла новгородцы «шедше в Прусскую землю и обретошя там некоего князя имянем Рюрика, сущя от рода римска царя Августа...» {234} Появление «августианской» легенды было продиктовано притязаниями России на равное место среди европейских держав. Но равность им вытекала из равности исторического начала, поэтому родословная московских великих князей была возведена, что тогда было в порядке вещей, к Августу «кесарю», наиболее почитаемому европейскими монархами из всех правителей древности. Естественно было ожидать, что русские книжники, установив «родство» Рюрика с римским императором, связали бы его непосредственно с самим Римом. Но наши мыслители, отступив от принятых тогда канонов, вывели Рюрика не из Рима, не из Италии, а с Южной Балтики, которая во времена могущества «вечного города» находилась далеко на периферии мировой истории и ничем в ней не отметилась. К этому их подвела традиция, зафиксированная в ПВЛ и имеющая широкое распространение в русском обществе. Сами же истоки легенды уходят в глубокую древность именно южнобалтийского славянского мира {235}.
Южную Балтику как родину варягов называет «Хронограф» С.Кубасова (1626), согласно которому за Рюриком «послаша в варяги в Прускую землю...» {236} Тот же адрес дает «Повесть о происхождении славян и начале Российского государства», созданная в середине XVII в. и отразившаяся во многих летописных сводах {237}. Именно о южнобалтийских и именно о славянских истоках руси говорят памятники, возникшие в середине и в третьей четверти XVII в. в Малороссии. В Бело-Церковском универсале Б.Хмельницкого (1648) сказано, что руссы «из Русии, от помория Балтийскаго альбо Немецкаго...» {238} Далее речь идет о неком князе, под предводительством которого руссы взяли Рим и четырнадцать лет им обладали. Канцелярист Войска Запорожского С.В.Величко в 1720 г. передал слова «Универсала» о родине руссов в несколько иной редакции: «...руссов з Ругии от помория Балтицкого албо Немецкого...». Назвал он и имя предводителя руссов – «Одонацера» {239}, т.е. Одоакра, в 476 г. свергшего последнего императора Западноримской империи и в течение тринадцати лет владевшего Северной Италией. Историк VI в. Иордан причисляет Одоакра к ругам-русам («genere Rogus»), а в позднем средневековье он -герой именно западнославянских исторических сказаний, где чаще всего именуется «русским» или «ругским» князем, герулом с острова Рюген, известного по источникам еще как Русия и Ругия. Эти названия, кстати, звучат в «Универсале» и в труде Величко. Хмельницкий, ведя речь о южнобалтийских истоках Руси, обращался к самой широкой аудитории, хорошо, следовательно, знакомой с традицией, выводившей русь с южного берега Балтики.
Эта же традиция проявилась в Синопсисе, изданном в 1674 г. в Киеве, к тому же назвавшем язык варягов: «Понеже варяги над морем Балтийским, еже от многих нарицается Варяжское, селение своя имуще, языка славенска бяху...» {240} М.П.Погодин сообщает о списках описания русских монет, поднесенных Петру I, где в пояснении к указанию западноевропейского хрониста Гельмольда о проживание славян в Вагрии добавлено – «меж Мекленбурской и Голштинской земли... И из выше означенной Вагрии, из Старого града князь Рюрик прибыл в Новград...» {241} Старый град – это Старгард, переименованный в немецкий Ольденбург в Голштинии, в древних землях вагров. И у этой информации о Вагрии имеются корни на русской почве. Так, в древнейшем списке «Хождения на Флорентийский собор» поясняется, что когда митрополит Исидор и его свита плыли в мае 1438 г. из Риги в Любек морем, то «кони митрополичи гнали берегом от Риги к Любку на Рускую землю» {242}. Любек расположен на р. Траве, разделявшей в прошлом владения вагров и ободритов, и эту территорию русские в середине XV и в первой половине XVI в. именуют «Руской землей». Обращает на себя внимание тот факт, что западноевропейские документы XI и конца XIV в. также полагают Любек в «Руской земле» {243}. Иоакимовская летопись, относимая к 1740-м гг., представляет варяга Рюрика славянином, сыном средней дочери Гостомысла Умилы и правнуком Буривоя {244}.
Все названные русские памятники свидетельствуют, что только представлением о славянской природе варягов, прибывших с южного берега Балтийского моря, всегда и жило восточнославянское общество. Этими же представлениями, что характерно, жила и Западная Европа. К свидетельству Герберштейна примыкает мнение Г.ВЛейбница, не сомневавшегося, что родина варягов – «это Вагрия, область, в которой находится город Любек, и которая прежде вся была населена славянами, ваграми, оботритами и проч.» {245}. Важно подчеркнуть, что, превосходно зная исландские саги и скандинавскую историю, ученый, как и Герберштейн, отождествил варягов не со шведами, а с южнобалтийскими славянами. В «Зерцале историческом государей Российских», написанном датчанином А.Селлием, Рюрик с братьями также выводится из Вагрии {246}. Селлий, живя в России и будучи сотрудником Байера, по его совету занялся русской историей. Но во взгляде на этнос варягов он был абсолютно независим от своего наставника. Это объясняется тем, что в своем выводе Селлий вполне мог опираться, как и когда-то Герберштейн, на предания, бытовавшие в Дании, в том числе и среди дальних потомков вагров. То, что такого рода предания имели место быть и долгое время звучали на Южной Балтике, зафиксировал в 1840 г. француз К.Мармье. Посетив Мекленбург, расположенный на землях славян-бодричей и граничащий на западе с Вагрией, он записал легенду, что у короля ободритов Годлава были три сына – Рюрик, Сивар и Трувор, которые, идя на восток, освободили от тирании народ Руси и сели княжить соответственно в Новгороде, Пскове и на Белоозере. По смерти братьев Рюрик присоединил их владения к своему и стал основателем династии русских князей {247}. Об историзме южнобалтийских преданий говорят средневековые европейские родословные. В XVII в. немецкие ученые Ф.Хемнитц и Б.Латом установили, что Рюрик жил около 840 г. и был сыном ободритского князя Годлиба, убитого датчанами в 808 г. {248} В 1708 г. вышел в свет первый том «Генеалогических таблиц» И.Хюбнера. Династию русских князей он начинает с Рюрика, потомка вендо-ободритских королей, пришедшего около 840 г. с братьями Синаусом и Трувором в Северо-Западную Русь. В 1753 г. С.Бухгольц привел генеалогию вендо-ободритских королей и князей, чьей ветвью являются сыновья Годлиба Рюрик, Сивар и Трувар, ставших, по словам ученого, «основателями русского дома» {249}. В начале XVIII в. в Германии звучали дискуссии, в которых Рюрика выводили из славянской Вагрии {250}.
Приведенный материал показывает, что южнобалтийская теория происхождения варягов опирается на древнюю традицию, которая отразилась во многих восточнославянских и иностранных памятниках X-XVIII вв. И это единственная традиция в историографии, других просто нет. Одновременное существование двух версий южнобалтийской традиции – восточноевропейской и западноевропейской, совпадающих даже в деталях, – факт огромной важности, прямо указывающий на ее историческую основу. Это подтверждают и арабские авторы. Ад-Димашки (1256-1327), ведя речь о «море Варенгском» поясняет, что варяги «есть непонятно говорящий народ и не понимающий ни слова, если им говорят другие... Они суть славяне славян...» {251} Ко времени ад-Димашки варяги давно сошли с исторической сцены, давно были завоеваны немцами южнобалтийские славяне, на Руси термин «варяги» давно уже стал синонимом выражениям «немцы», «римляне», «латины». Поэтому, слова ад-Димашки являются повтором, как это предполагал еще С.А.Гедеонов {252}, очень древнего известия. Массовый археологический и лингвистический материал свидетельствует в пользу самого широкого присутствия в Северо-Западной Руси выходцев с Южной Балтики, на фоне которого совершенно теряются т.н. «норманские древности». Логическим продолжением южнобалтийской традиции являются труды М.В.Ломоносова. Поэтому, как верно замечает А.Г.Кузьмин, «говорить о Ломоносове как о родоначальнике антинорманизма можно лишь условно: по существу, он восстанавливал то, что ранее уже было известно, лишь заостряя факты, либо обойденные, либо произвольно интерпретированные создателями норманно-германскои концепции» {253}.
Но если южнобалтийскую теорию никто не создавал и она самым естественным образом вытекает из предшествующей историографии, то совершенно иначе обстоит дело с норманской теорией, не имеющей никакой основы, т. е. лишенной того, что превращает любое предположение в достояние науки – источниковой базы, и искусственно вызванной к жизни шведскими историками XVII в. Обслуживая великодержавные замыслы своего правительства, стремившегося отбросить Россию от Балтийского и северных морей и с этой целью разработавшего в 1580 г. «Великую восточную программу» {254}, П.Петрей, Ю.Видекинди, О.Верелий, О.Рудбек и другие обратились к варягам, некогда господствовавшим на Балтике и основавшим на Руси династию Рюриковичей, доказывая их якобы шведское происхождение (см. коммент. [63]). К созданию норманизма также привела давно культивируемая в Швеции мысль об исключительности ее истории. Шведский историк О.Далин в 1750 г. так выражал эти представления, характерные и для его предшественников: «Мы, как шведы, должны благодарить творца за преимущество пред многими другими, которого нам не единый народ оспоривать не может» {255}.
Политическая заданность норманизма уже сводит на нет все разговоры о скандинавской руси, которую, как вынуждены были признать норманисты, не знает история {256}. Ее присутствие среди скандинавских народов не фиксирует ни один средневековый памятник, ее нет в скандинавском устном народном творчестве, ее нет в исландских сагах, уделявших исключительное внимание скандинавской истории. Поэтому, варяжская русь никак не могла выйти из Скандинавии, выйти оттуда, где ее никогда не было. Но, в отличие от северного побережья Балтийского моря, на его южном и восточном берегах существовало несколько Русий, зафиксированных целым рядом источников: Любек с окрестностями, остров Рюген (Русия, Ругия, Рутения, Руйяна), район устья Немана, побережье Рижского залива (устье Западной Двины), западная часть Эстонии (Роталия-Руссия). Из одной или нескольких балтийских Русей в северо-западный район Восточной Европы прибыла в конце VIII – середине IX в. в ходе нескольких переселений варяжская русь, что получило свое отражение в Сказание о призвании варягов. Изначальную этническую принадлежность этой руси трудно определить, но языком ее общения был славянский язык. В движение на восток лишь в конце X в., как вытекает из показаний скандинавских памятников, были втянуты норманны, которые, таким образом, не имели никакого отношения ни к истории Руси IX – середины X в., ни к варягам этого времени, ни к происхождению династии Рюриковичей.
Научную недеспособность норманской теории ощущали сами норманисты. Так, В.О.Ключевский искренне признавался, что «мы чувствовали, что в ней много нескладного, но не решились сказать что либо против нее. Мы ее сохранили как ученики ее создателей и не знали, что делать с ней как преподаватели. Открывая свой курс, мы воспризводили ее, украшали заученными нарядами и ставили в угол, как ненужный, но требуемый приличием обряд» {257}.
[23] Под 1254 г. в Ипатьевской летописи говорится об участии Даниила Галицкого в борьбе за австрийское герцогство, в ходе которой он вторгся в Чехию, где безуспешно осаждал г. Опаву, которую обороняли «немце». Упомянута здесь и весь «немецкой» {258}. Но под «немцами» в этих случаях понимаются не чехи, а этнические немцы, осевшие в чешских землях в ходе «немецкой колонизации», с XIII в. охватившей многие страны Европы. Русские не именовали «немцами» («римлянами», «латинами»), ни чехов, ни поляков, несмотря на их принадлежность к католическому миру {259}, по причине родства с ними, совместной принадлежности к славянскому корню. Наши предки свое отношение к ним сверяли через призму этнографического введения ПВЛ, где речь идет об единой для всех славян «дунайской колыбели», из которой они шагнули на европейские просторы: «По мнозех же времянех сели суть словени по Дунаеви, где есть ныне Угорьска земля и Болгарьска. И от тех словен разидошася по земле и прозвашася имены своими, где седше на котором месте... тако разидеся словеньский язык...» {260} Поэтому и хорваты не были для русских «латинами», хотя и исповедовали католицизм. Как констатировал автор «Хождения на Флорентийский собор», «хавратяне, язык с руси, а вера латыньская» {261}.
Не позволяла отнести к «немцам» западных славян кирилло-мефодиевская традиция, которая, кстати, освящала собой и венгров. Деятельность славянских просветителей протекала прежде всего на территории Великой Моравии, ядро которой – Моравия – в 1029 г. было присоединено к Чехии, и Паннонии, куда в 895 г. пришли венгры. С Паннонией и Моравией связывает Русь не только наследие Кирилла и Мефодия, но и западнославянские истоки русского христианства, открытые Н.К.Никольским {262}. На Руси венгров не называли «латинами», «римлянами», «немцами», думается, еще по причине того, что в Западной Европе, в «Немецкой земле» они являлись пришлым, не «немецким» народом, вышедшим из пределов Восточной Европы еще на памяти русских. К тому же, они обосновались именно там, где находилась колыбель славянского мира. Их пребывание в пределах славянской прародины вызывало особое отношение к ним, в чем-то даже сближающее со славянами, поэтому и исключающее венгров из числа «немецких» народов. Как заключал автор Великопольской хроники, выводя славян из Паннонии, давно уже занятой венграми, что и они «являются славянами» {263}. Возможно, названные народы не называли ни «немцами», ни «латинами», ни «римлянами» еще потому, что в их истории когда-то большую роль играло и в какой-то еще мере продолжало играть православие. И хотя они уже впали в «римскую ересь», но вместе с тем не являлись, с точки зрения русского человека, стопроцентными «латинами» и «римлянами».
[24] Как показывает анализ разновременного и разнохарактерного материала, термин «варяги» начинает со второй половины X в. отрываться от своей основы и обозначать собой принадлежность к определенной части западноевропейского мира, которую в XI в. уже олицетворяет «не только в географическом, этническом, но после крещения Руси, а особенно после 1054 г. – и в вероисповедальном смысле». Он становится полностью адекватным по смыслу выражениям «немцы», «римляне», «латины», с которыми используется теперь наравне и параллельно при разговоре о бульшей части западноевропейских, католических народах {264}. Вот почему летописец, в XII в. вносивший в свой труд Сказание о призвании варягов, вынужден был сделать специальное пояснение и выделить из числа «варяжских» (как бы сейчас сказали западноевропейских) народов именно варяжскую русь, назвать ее как особое, самостоятельное племя, вроде шведов, норвежцев, готов и англян-датчан: посольство в поисках князя «идоша за море к варягом, к руси; сице бо тии звахуся варязи русь, яко се друзии зовутся свие, друзии же урмане, анъгляне, друзии гьте, тако и си» {265}.
В последний раз термин «варяги» был использован в ПВЛ применительно к событиям 30-х гг. XI в., а в Ипатьевской летописи, памятнике Южной Руси, – в статье под 1148 годом. С рубежа XII-XIII вв. он исчезает и из северозападной, новгородской письменной традиции (но при этом не выйдя вовсе из обихода, продолжая бытовать, например, в церковных кругах). Вот с этого времени русские летописцы при описании современных им событий, в коих была задействована известная часть западноевропейцев, надолго перестают употреблять термин «варяги», заменив его абсолютно равнозначным ему словом «немцы».
Вместе с тем термином «немцы» наши книжники начинают оперировать и при обращении к далекому прошлому своей Родины, в результате чего со второй половины XV в. многие летописи говорят о выходе варяжских князей – Рюрика с братьями – «из немец». Имеются случаи обратной замены «немцев» на «варягов», что еще раз говорит в пользу как полной тождественности этих терминов, так и отсутствия в них конкретного этнического содержания. В Рогожском летописце, известном в единственном списке 40-х гг. XV в., в известном рассказе под 986 г. о приходе к Владимиру посольств вместо «немцев», читающихся ранних летописях, к князю явились уже «варяги»: «приидоша к Владимиру бохмичи и варязи и жидове» {266}.
А.Л.Шлецер, сославшись на современную ему ситуацию, когда «большая часть славянских народов называет так (т. е. немцами. -В.Ф.) собственно германцев», увидел во фразе «от варяг от немец» аргумент в пользу того, что «варяги суть германцы (немцы)» {267}. Вслед за ним так рассуждали многие ученые – А.Х.Лерберг, М.П.Погодин, А.А.Куник, А.А.Шахматов и другие. Вдобавок Куник уверял, что «нельзя доказать, чтобы в древнейшие времена славянское название германцев немцы было употреблено и не к германским народам» {268}. Но в своем утверждении Шлецер, что впрочем характерно для него, шел против очевидной истины. Не мог же он, владея русским языком и проявляя огромный интерес к истории России, тем более прожив в ней несколько лет, не знать того, на что обратил внимание еще швед Ю.Г.Спарвенфельд, бывший в Москве в 1684-1687 гг. и пояснивший в своем «Славянском лексиконе» слово «немчин» как «иноземец» {269}. К тому же работа Спарвенфельда была хорошо известна Шлецеру (будучи в 1755—1758 гг. в Швеции, он издал там труд «Новейшая история учености в Швеции»), как была известна ему книга другого шведа Ф.-И.Страленберга, после Полтавы много лет проведшего в русском плену и объяснявшего в 1730 г. западноевропейскому читателю, что «под имянем немца прежде россиане почитай всех европейских народов разумели, которыя по словенски или по руски говорить не знали. Ныне же сие об однех... германах разумеется» {270}. Тем более не могли не знать все нюансы бытования термина «немцы» в своем родном языке сами русские исследователи, энергично закреплявшие в науке довод Шлецера. Ведал же об этом немец Г.Эверс, первым поставивший под сомнение довод своего учителя: раньше слово «немцы» имело общее значение по отношению ко всем народам, которые говорили на непонятном для словен языке» {271}. И норманист Н.М.Карамзин говорил, что «предки наши действительно разумели всех иноплеменных под именем немцев...» {272}
В рассматриваемом случае надо признать абсолютную правоту Страленберга: термин «немцы» в наших источниках он прилагается только к западноевропейскому миру, а не ко всем не славянам и иноплеменникам вообще, как считали Эверс и Карамзин, и символизировал собою определенную совокупность западноевропейских католических народов (но не всех). Этот термин также обозначал территорию Западной Европы (опять же не всю), т.е. являлся географическим понятием. Насколько широко понимали русские выражение «Немецкая земля», показывает статья под 1190 г. Ипатьевской летописи. Она называет владения Священной Римской империи, представляющей собой конгломерат большого числа государственных образований, в рамках которых проживали не только германцы, но и народы, не имеющие никакого отношения к собственно немцам, «землей Немечкой» {273}. Прилагался термин «немцы» и к тем землям, которые изначально не были «немецкими», но были захвачены западноевропейцами. Так, НПЛ младшего извода и псковские летописи, ведя речь о владениях ливонских немцев, используют применительно к ним название «немцы»: отъехал «в немци», приехал «из немець» {274}. Точно также именует НПЛ младшего извода территорию прусских немцев. Под 1381 г. в ней помещено известие о бегстве Витовта после убийства в Литве его отца «Кестутья Гедиминовича» «в немце» {275}, т. е. в Пруссию. В связи с завоеванием финских и части карельских земель шведами-«немцами», русские начинают именовать «немцами» подвластных им финнов и карелов (ходили на «имь, на немци...», «воеваша городецьскую корелу немечкую...») {276}. Со временем число народов, относимых в России к «немцам», возрастет еще более. Так, в царской грамоте 1609 г. Соловецкому монастырю говорится, что в войске, пришедшем из Швеции, находятся «датцкие и аглянские и шпанские и францовские и свейские немецкие многие люди» {277}. Поэтому вывод поздних летописей Рюрика «из немец» «служило указанием не на его этнос, а лишь на пределы Западной Европы, откуда вышли варяги» {278}.
[25] В первую очередь, конечно, Русь должна была установить связи с наиболее развитым районом балтийского Поморья. Таковым являлось его южное побережье, которое отличалось от всей Европы в целом весьма высоким уровнем развития экономической жизни, что особенно было характерно для племен, обитавших на побережье – ободритов, северных лютичей и поморян. Исследования немецких археологов показывают, «что примерно с VIII в. именно южный берег Балтики выходит на первый план в экономическом развитии. Не случайно, — отмечает А.Г.Кузьмин, — что через города южнобалтийского побережья с конца VIII в. поступает с востока (из Волжской Болгарии) арабское серебро – знаменитые дирхемы» {279}. Каков был уровень жизни южнобалтийских славян, говорят иностранные авторы. Адам Бременский (ок. 1070) и епископ магдебургский Адельгот (ок. 1110) в один голос утверждают, что их земли чрезвычайно обильны продуктами питания. Оттон Бамбергский застал в 20-х гг. XII в. Поморье в состоянии довольства и богатства: «Нет страны обильнее медом и плодоноснее пастбищами и лугами», что она «невероятно обильна рыбой, добываемой как из моря, так и из рек, озер и прудов; на один денарий можно купить целый воз свежих, вкусных и жирных сельдей; в таком же изобилии водится и дичь: олени, дикие быки и кони, медведи, кабаны, свиньи и всякие другие звери. Здесь добывается в излишестве масло от коров, молоко от овец, жир от баранов и козлов; и мед; обильно родится пшеница, конопля и мак, и всякого рода овощи...»
Невероятного размаха приобрела торговля балтийских славян, что диктовалось, по словам А.А.Котляревского, «срединным географическим положением страны, соединявшей север и восток с западом и югом, богатой морскими и речными судоходными путями сообщения». Балтийское море открывало им свободный доступ к рынкам многих стран. Как полагал еще А.Ф.Гильфердинг, балтийские славяне торговали не только с Русью, но и напрямую с Азией. Уже в конце VIII – начале IX в. их торговля с Западом была настолько значительна, что Карл Великий счел необходимым ее упорядочить. Бодричи уже тогда имели на берегу моря особый торговый порт – Рарог. Развита была внутренняя торговля: города и важнейшие селения имели рынки, племена, в том числе и самые отдаленные, торговали друг с другом. Важно отметить, что торговлей балтийские славяне занимались не только повсеместно, но и чуть ли не целыми городами. Так, Оттон Бамбергский во время своего первого пребывания в Поморье (1124-1125) крестил жителей ряда городов в два приема, т. к. многие из них были купцами и во время первого крещения находились в чужих землях и возвратились домой уже после ухода миссионера. А когда он явился первый раз в Колобрег, то город оказался практически пуст, т.к. его жители отправились торговать в море, на острова.
Я.П.Зинчук отмечает, что «характерной особенностью в развитии экономики Поморья было раннее и интенсивное развитие городов», что объяснялось их расположением на торговых путях. И эти торговые города – Старград у вагров, Рерик у ободритов, Дымин, Узноим, Велегощ, Гостьков у лютичей, Волин, Штетин, Камина, Клодно, Колобрег, Белград у поморян – были очень обширны, многочислен и хорошо устроены как в хозяйственном, так и в военном отношениях. Исходя из того, что главный город ободритов Рарог немцы именовали Микилинбургом (Великим городом), а Волин, по оценке Адама Бременского и Гельмольда, «был самый большой город из всех имевшихся в Европе городов», напрашивается вывод, что таких городов немцы не знали и впервые увидели лишь в землях балтийских славян. Когда датчане захватили в 1168 г. на Руяне Кореницу, то они были поражены видом трехэтажных зданий. Балтийские славяне являли собой одновременно тип торговца и разбойника, причем в том и другом качестве добившись больших успехов. Они, разбойничая на море, имели постоянные крепости для убежища даже на берегах Южной Швеции. Особенно Вагрия и Руяна славились своими дерзкими и неукротимыми пиратами. Лютичи, говорит Гильфердинг, любили дальние плавания и не раз ходили в Англию уже в VIII в., плавали они туда и в XI столетии.
Широкомасштабные действия балтийских славян на море могли быть обеспечены наличием мощного флота, призванного также защищать побережье. Этот многочисленный флот состоял из больших и малых кораблей, вмещавших значительное количество товаров, пеших и конных людей. Славяне были самым мореходным народом на Балтике, были первыми в морском деле и в морских сражениях. По оценке И.А.Лебедева, «славяне властвовали на море безраздельно и были передовым народом в мореплавании. Они отличались искусством в построении судов. Первые большие корабли, которые могли вмещать лошадей, были построены ими». Отсюда и важное новшество, введенное славянами в военно-морских операциях: погружая на корабли коней и посредством их совершая быстрые вторжения вглубь территории противника (этот способ был затем перенят у них датчанами).
По заключению Котляревского, «торговая и промышленная деятельность, морские и сухопутные разбои и войны составляли главные источники обогащения народонаселения». И они были столь обильны, что страна, по известиям современников, почти не знала бедности. О Поморье шла слава, что там не было нищих, а бедняки вообще презирались. Когда епископ Бернгард явился в 1122 г. для проповеди в Волин, то жители, лицезрея его разутым и в одежде бедняка, не поверили, что он есть посланник истинного бога, «полного славы и богатства», и приняли его за обманщика. Успех проповеди Оттона Бамбергского во многом заключался именно в том, что поморяне увидели в нем богатого человека. И «только имея в виду природные богатства края, — говорит Котляревский, — можно объяснить себе, почему так долго и упорно стремились немцы к обладанию славянским побережьем Балтийского моря, почему, наконец, – и [немецкая] колонизация страны совершилась так охотно и быстро». Как добавлял Зинчук, наступление на славян было вызвано не только стремлением захватить их земли и приобрести крепостных крестьян, но и желанием завоевать славянские торговые города на Балтике, обосноваться на Балтийском торговом пути и захватить в свои руки всю торговлю между Западом и Востоком. И немцы, подытоживает он, опираясь на эти города, устанавливают свое господство на Балтийском торговом пути, и к XIII в. немецкие купцы вытеснили с Балтики купцов Новгорода. По мнению Котляревского, торговля балтийских славян, угасшая под ударами немцев, возродится, но уже в чужих формах {280}.
[26] Выше (см. коммент. [24]) говорилось о практике приложения термина «варяги», начиная с конца X в., ко многим западноевропейским народам. Еще В.Н.Татищев полагал, что под варягами на Руси «разумели финов и шведов, иногда Данию и Норвегию то заключали». М.В.Ломоносов говорил, что «варягами назывались народы, живущие по берегам Варяжского моря». В.К.Тредиаковский считал, что так летописи именуют «без изъятия» всех европейцев. Ломоносов, надо сказать, был первым в науке, кто обратил внимание на тесную смысловую связь терминов «варяги» и «немцы» и даже пытался ее объяснить {281}.
В Западной Европе отсутствие в термине «варяги» конкретного этнического содержания отмечал в 1730 г. швед Ф.-И.Страленберг. По его словам, «варяги есть имя общественное, которым называлися... народы, обитавшия около Балтийскаго моря». Ученый сделал свой вывод, опираясь на живую традицию, с которой он познакомился в России. За более чем столетие до Страленберга его соотечественник П.Петрей отразил ту же традицию. В начале XVII в. он констатировал, что «русские называют варягами народы, соседние Балтийскому морю, например, шведов, финнов, ливонцев, куронов, пруссов, кашубов, поморян и венедов», т. е. русские относили к варягам германцев (шведов, ливонских немцев), финнов, куршей, славян Южной Балтики (кашубов, поморян, венедов), а также других, не названных им европейцев. В 60-х гг. XVII в. Ю.Крижанич, исходя из той же традиции, охарактеризовал варягами чудь и литву {282}. В начале XIX в. Г.Эверс предложил более широкое толкование значения этого термина: в варягах русские видели многие восточно- и западноевропейские народы. Затем в науке говорили, что с именем варягов соединено такое же неопределенное «понятие, какое греки соединяли с именем скифов, и новейшие географы с именем татар», что под ним разумели «всех не руссов и не греков», «заморянина», чужого, иноземца, иноверца {283}. Действительно, в очень редких случаях русские понимали в XVI — XVII вв. под «варягами» не только какую-то часть жителей Западной Европы, но и азиатские народы. В трех списках «Сказания о Мамаевом побоище» – в Ундольском (Основная редакция), в Вологодско-Пермской летописи (Летописная редакция) и в Пражском, относящихся к XVI-XVII вв., – упомянуты «дунайские варяги» {284}. Б.М.Клосс, привычно увязывая варягов со скандинавами, фразу «дунайские варяги» прокомментировал в соответствующем духе: «На р. Дунае варяги не жили...» {285} С «дунайскими варягами», если на них не смотреть глазами норманиста, все обстоит довольно просто: так русский книжник охарактеризовал турок (в ряде списков они названы под своим именем), ведущих в 80-90-х гг. XIV в. активное наступление на Болгарию и завоевавших ее.
В Основной редакции «Сказания о Мамаевом побоище» турки названы «дунайскыми татарами» {286}. В Распространенной редакции «Сказания» говорится о «дунайских врагах», в Забелинском списке – о «дунайских агарянах» {287}. В ПВЛ под 1061 г. сообщается о пришествии половцев на Русь. Как уточняет при этом летописец: «Се бысть первое зло от поганых и безбожных враг. Бысть же князь их Искал». Но в трех списках Воскресенской летописи (XVI-XVII вв.) вместо «безбожных враг» уже читается «безбожных варяг» {288}. И этот ряд «татары-турки-агаряне-половцы-враги-варяги» весьма логичен и не является, как это может показаться на первый взгляд, плодом слепой ошибки или описки переписчиков, для которых все эти термины давно уже имели одинаковую и вместе с тем крайне негативную окраску, что в конечном итоге и предопределяло их взаимозаменяемость. Этот ряд абсолютно точно высвечивает то значение, которое вкладывалось русскими книжниками позднего времени в термин «варяги» – это название врага Руси вообще, независимо от того, где он находился: на Западе или же на Востоке. Это одновременно и название врага всего славянского мира.
[27] Предположение С.А.Гедеонова весьма нелогично, т. к. литва уже названа в составе войска, идущего на соединение с Мамаем. Приведенная им цитата читается, хотя в ней фигурирует не Ягайло, а его отец Ольгерд, в Основной и Летописной редакциях «Сказания о Мамаевом побоище». Б.М.Клосс прокомментировал «варягов» «Сказания» опять же в норманистском духе, не преминув при этом бросить упрек русскому книжнику: «Варягами в древней Руси называли скандинавов, преимущественно шведов. Их участие в походе литовского великого князя к Куликову полю нужно отнести к догадкам автора «Сказания» {289}. «Варягов» Ягайло следует, конечно, рассматривать в свете общего значения этого термина, давно лишенного своего конкретного этнического содержания.
Вполне вероятно, что автор «Сказания» говорит о западноевропейских наемниках литовского великого князя, а именно о крестоносцах. В мае 1380 г. Ягайло заключил тайный договор с Орденом, направленный против его дяди Кейстута, но вместе с тем позволявший ему бросить «все силы Великого княжества на восток» {290}. И в рамках этого соглашения Ягайло мог обговорить участие крестоносцев в своем выступлении против Москвы. Возможно, что словом «варяги» автор «Сказания», не вкладывая в него никакого конкретного содержания, хотел еще более усилить отрицательный образ западного соседа Руси, стремившегося, полагаясь на союз с нашим смертельным врагом на Востоке, не только поживиться за ее счет, но и помешать ей обрести долгожданную свободу, а значит, сохранить над ней ненавистное владычество золотоордынских ханов. Возможно и третье объяснение наличия варягов в войске Ягайло. Русский книжник XV в., рисуя полную драматизма картину кануна Куликовской битвы, когда на Русь двинулись монголы и литва, в своей реконструкции событий столетней давности мог произвольно добавить к последним еще и крестоносцев-«варягов», полагая, хорошо зная историю наших взаимоотношений с ними, что тогда эти недруги никак не могли остаться в стороне, не могли не участвовать в нашествии. Поэтому, победа над монголами – это одновременно победа и над литвой, и над крестоносцами, что не только еще больше возвеличивало значение битвы на поле Куликовом, сокрушившей замыслы темных сил Востока и Запада погубить святую Русь, но и в более полном объеме демонстрировало торжество православия над «безбожными» и «нечестивыми».
Создание «Сказания о Мамаевом побоище» ученые датируют либо первой четвертью XV в. {291}, либо 70-80-ми гг. этого столетия {292}, либо его концом {293}, либо началом XVI века {294}. Киприановская редакция памятника помещена в Никоновской летописи и представляет собой, по мнению специалистов, соединение Летописной повести и самого «Сказания», и принадлежит руке составителя летописи митрополита Даниила (1522-1539) {295}.
[28] Маркоманами Гельмольд именует жителей Вагирской марки (марки представляли собой крупные пограничные административные округа, которые немцы, начиная с X в., основывали за Эльбой (Лабой) на землях, захваченных у славян. Им отводилась роль плацдармов в дальнейшем продвижении на восток).
[29] В науке давно отмечается, что церковь святого Ильи названа «соборной», «т. е. главной, что предполагает наличие и других христианских храмов» в Киеве {296}.
[30] Главный город ободритов Рарог, расположенный у Висмарского залива, который датчане именовали Рерик (Rerik) {297}.
[31] Норманисты, начиная с Ф.Крузе, отождествляют летописного Рюрика с Рориком Ютландским (Фрисландским), признавая тем самым, что аналогии имени Рюрик находятся только в материковой Европе, но не на Скандинавском полуострове. При этом они не замечают, что Рорик Ютландский опять же связывает варягов именно с Южной Балтикой.
[32] А.Г.Кузьмин показывает, что имя Рюрик (Rauric, Ruric, Roric) имело широкое распространение в Европе уже «с первых веков нашей эры». Так, до VII в. известно пять таких имен; на территории Франции для IX – нач. XII вв. зафиксировано 12 «Рориков». В этом имени исследователь видит отражение племенного названия руриков (рауриков-raurici), имя которых происходит от р. Рур или Раура {298}.
[33] В науке и обществе широкое распространение получило заблуждение, суть которого состоит в том, что братьев Рюрика «Синеуса и Трувора не существовало, а летописец буквально передал слова старошведского языка sine hus и thru varing, означавшие «с родом своим» и «верной дружиной». Этот домысел, в свою очередь, предполагает существование договора на старошведском языке, заключенном Рюриком с призвавшими его славянскими и финскими старейшинами, который «сохранялся в княжеском государственном архиве и был использован в начале XII в. летописцем, не понявшим некоторых его выражений» {299}. Взгляд на Сказание о призвании варягов как на памятник скандинавского творчества абсолютно несостоятелен, на что указывают сами же норманисты. В.Я.Петрухин несколько раз говорил, что его текст не несет никаких следов, позволивших бы заподозрить в нем «перевод. Возведение же имен Синеус и Трувор к упомянутым фразам фонетически невозможно» {300}.
Само Сказание о призвании варягов показывает, насколько надуман разговор о «мифичности» Синеуса и Трувора. В нем в части о призвании говорится: «изъбрашася 3 братья с роды своими, и пояша по собе всю русь, и придоша; старейший, Рюрик... а другий, Синеус... а третий... Трувор» {301}. Непредвзятому читателю видно, что в приведенной цитате уже присутствует фраза «с роды своими», с которыми явились братья на Русь, поэтому имя Синеус никак не может означать то же самое. Далее в памятнике читается, что по смерти Синеуса и Трувора Аскольд и Дир у Рюрика «испросистася ко Царюгороду» все же «с родом своим» {302}, а не с покойным Синеусом. К рассказу о призвании варягов, помещенному под 862 г., относится летописная статья под 882 г., повествующая о захвате Олегом Киева. Когда новгородский князь вызывал киевских князей Аскольда и Дира из города, то уточнял: «да придета к нам к родом своим» {303}, а не к Синеусу, как это вытекает из утверждений норманистов.
Отрицание реальности братьев Рюрика объясняется тем, что поиски этих имен, по признанию норманистов, «в древнескандинавской ономастике не привели к обнадеживающим результатам», а это подрывает их построения. Но они не там ищут – имена Синеус и Трувор не имеют отношения к скандинавскому миру. А.Г.Кузьмин нашел им в кельтских языках «ясные и естественные параллели». В них, например, встречается большое количество имен, восходящих к sini – «старший». Первоначальное кельтское звучание этого важного для эпохи образования государственности понятия – sinjos – практически совпадает с именем Синеус. Имя же Трувор сопоставимо с многочисленными производными от племени треверов (у современных кельтов широко распространено имя Тревор), а в древнефранцузском языке имелось «прямо совпадающее с именем» слово trouveur, означавшее «поэт», «трубадур», «путешественник». «В кельтской традиции, — подчеркивает Кузьмин, — много имен от «три», и «третий» по рождению обычно означал не просто порядковый номер, а лучшего из рода» {304}. Мысли, высказанные Кузьминым в отношении имен Синеус и Трувор находят поддержку и развитие в науке {305}.
[34] В.К.Тредиаковский еще в 1758 г. верно заметил, чем, казалось бы, исчерпал саму тему, что «у нас быть за морем и ехать за море не значит проезжать чрез море, но плыть токмо по морю, кудаб то ни было в отдаленную страну. Ехать за море у нас, есть и сухим путем ехать от моря в другое государство; так ездили мы за море во Францию, в Италию и в Немецкую землю» {306}. Но норманисты, начиная со Шлецера, толкуют летописную фразу «за море», которую она прилагает к родине варягов («за море» к варягам, «из заморья» от варягов), несомненным указанием на Швецию. Как показывает самый разнообразный материал, термином «за море» русские люди определяли на протяжении столетий «нахождение земель, стран, народов и городов вне пределов Руси, вне пределов собственно русских земель вообще, независимо от того, располагались ли они действительно за морем или нет». В связи с чем, летописное «за море» в своем чистом виде, без сопроводительных пояснений (этнических, географических, еще каких-то других) не может быть аргументом при любой версии их этноса {307}.
[35] Tabula Peutingeriana – Певтингерова таблица, названная по имени владельца XVII в. К.Певтингера. Представляет собой карту известного для римлян мира, изготовленную в XII—XIII вв., но восходящую, по мнению специалистов, к позднеримскому времени. В науке нет единого мнения о времени ее создания, и она датируется рамками I—V вв. н. э.
[36] Зыбкость доводов норманистов в пользу якобы скандинавской природы многих летописных имен демонстрируют они же сами. Так, например, Н.Т.Беляев в 1929 г. насчитал в летописях 27 скандинавских имен, подчеркнув при этом, что число скандинавских имен «является преуменьшенным» {308}. В 1956 г. шведская исследовательница А.Баеклунд уже сказала, что в новгородских летописях из примерно 800 имен лишь 19 (2,4%) скандинавского происхождения, а в грамотах Новгорода и Пскова из около 3400 имен – 4 (0,1%) скандинавские {309}. Несомненно, что именно последняя группа цифр отражает реальное присутствие скандинавов в истории Киевской Руси, причем далеко не в самый ранний ее период. Полную несостоятельность вывода летописных имен к скандинавской основе доказал А.Г.Кузьмин. Обращая внимание на весьма сложный, полиэтничный состав древнерусского именослова (славянский, кельтский, иллиро-венетский, подунайский, восточно-балтийский, иранский и другие компоненты), историк пришел к выводу, что в нем «германизмы единичны и не бесспорны», а норманская интерпретация сводится лишь к отысканию приблизительных параллелей, а не к их объяснению, противоречит материалам, «характеризующим облик и верования социальных верхов Киева и указывающим на разноэтничность населения Поднепровья» {310}.
[37] НПЛ подразделяется на два извода (редакции): старший, Синодальный список которого датируется второй четвертью XIV в., и младший, сохранившийся в ряде списков, два из которых – Комиссионный и Академический – относятся к середине XV столетия. Начало Синодального списка утеряно (до 1016). В XIX в. мнения ученых по поводу того, что содержалось в его утраченной части, разделились. Одни считали списки обоих изводов идентичными друг другу, полагая при этом, что в списках младшего читается ПВЛ. Другие утверждали, что в утерянной части Синодального списка была не ПВЛ, а самостоятельная новгородская летопись. Взгляд, разводящий обе редакции НПЛ по составу и характеру известий, ныне в основном отвергнут наукой. По сравнению с ПВЛ НПЛ младшего извода выглядит сильно сокращенной, многие тексты первой в ней отсутствуют, имеются расхождения и в самом повествовании. При этом ее известия до 1016 г. распадаются на две группы: до 945 и от 945 до 1016 года. А.А.Шахматов считал текст младшего извода до 945 г. первичным по сравнению с чтениями ПВЛ, а всю его часть до 1016 г. относил к своему гипотетическому Начальному своду 1095 года. А.Г.Кузьмин показывает, что нельзя считать начальную часть НПЛ (до 945 г.) первичной по сравнению с ПВЛ. Совершенно иной характер имеют известия летописи в части с 945 г., которая, наоборот, явно первична по отношению к ПВЛ и отражает тот же киевский источник, что вошел и в Лаврентьевскую летопись, и доходивший до 1115 г. и привлеченный в Новгороде при Всеволоде Мстиславиче {311}.
[38] Важные наблюдения С.А.Гедеонова были подкреплены в советское время заключениями лингвистов. Н.М.Петровский, проанализировав новгородские памятники, указал на наличие в них бесспорно западнославянских особенностей. Д.К.Зеленин, в свою очередь, обратил внимание на балтославянские элементы в говорах и этнографии новгородцев. Исходя из этих фактов, оба исследователя пришли к выводу, что близость в языке и чертах народного быта новгородцев и балтийских славян можно объяснить лишь фактом переселения последних на озеро Ильмень. Причем Зеленин полагал, что «Roots-Ruotsi можно связывать с именем древнего прибалтийского народа Руги. Этим именем называлось славянское население острова Рюгена или Руяны» {312}. С.П.Обнорский отметил западнославянское воздействие на язык Русской Правды, объясняя это тем, что в Новгороде были живы традиции былых связей со своими сородичами {313}.
[39] Выводы С.А.Гедеонова о заселении Северо-Западной Руси выходцами с южнобалтийского побережья полностью подтверждается массовым археологическим и антропологическим материалом (о нумизматических данных речь уже шла в коммент. [7]). По заключению археологов, южнобалтийская керамика представлена «в древнейших горизонтах культурного слоя» многих памятников Северо-Западной Руси (Новгорода, Изборска, Старой Ладоги, Луки, Белоозера и других). На посаде Пскова она составляет, например, более 81%, в Изборске более 60% {314}. Причем значительное место в ней занимает лепная керамика, являющаяся, по мнению специалистов, одной из наиболее ярких этнических индикаторов, к тому же изготовлена она из местного сырья. В 1960-х гг. В.Д.Белецкий широкое присутствие южнобалтийского керамического материала в раскопах Пскова объяснял тем, что сюда переселилось славянское население «из северных областей Германии...» {315} Затем В.М.Горюнова, характеризуя западнославянские формы раннекруговой керамики Новгорода и Городка на Ловати, пришла к выводу, что «керамика этих форм не имеет корней на Северо-Западе и, скорее всего, принесена сюда выходцами с южного побережья Балтики» {316}.
В 1969 г. антрополог В.П.Алексеев сделал вывод о наличии среди населения Северо-Западной Руси выходцев с Балтийского Поморья. Затем Т.И.Алексеева констатировала, что краниологические серии с территории Северо-Запада «тяготеют к балтийскому ареалу форм в славянском населении...» {317} Археолог В.В.Седов уточняет это положение: «Ближайшие аналогии раннесредневековым черепам новгородцев обнаруживаются среди краниологических серий, происходящих из славянских могильников Нижней Вислы и Одера. Таковы, в частности, славянские черепа из могильников Мекленбурга, принадлежащих ободритам». К тому же типу, по его мнению, относятся и черепа из курганов Ярославского и Костромского Поволжья, активно осваиваемого новгородцами {318}. В 1971 г. ученые В.Л.Янин и М.Х.Алешковский уверенно говорили о «балто-славянском контингенте новгородского населения», пришедшем с запада {319}. Сегодня антрополог Н.Н.Гончарова доказала генетическую связь новгородских словен с балтийскими славянами, а ее учитель Т.И.Алексеева видит в них исключительно «переселенцев с южного побережья Балтийского моря...» {320} В пользу этой же мысли все больше склоняется и В.В.Седов {321}. Одну из ранних староладожских «больших построек» ученые сближают со святилищами балтийских славян в Гросс-Радене (под Шверином, VII—VIII вв.) и в Арконе {322}, что сразу же объясняет, почему в русском язычестве отсутствуют скандинавские божества, но присутствует Перун, бог варяго-русской дружины и чей культ был широко распространен среди южнобалтийских славян.
Генетическая близость населения Северо-Западной Руси и Южной Балтики находит себе подтверждение также в характере металлических, деревянных и костяных изделий, в характере домостроительства и в конструктивных особенностях (решетчатая деревянная конструкция) оборонительного вала, распространенных в конце I тысячелетия н. э. только в указанных регионах. На юге Восточной Европы аналогичные типы домостроительства и фортификационных сооружений появляются позже {323}.
[40] Сообщение НПЛ под 1165 г. о построении церкви «святыя Троиця Щетициници» рассматривают как свидетельство существования в Новгороде организации купцов, торговавших со Штетином {324}. Непосредственная связь южнобалтийских славян с Новгородом проявилась и в том, замечает А.Г.Кузьмин, что «кончанская система Новгорода близка аналогичному территориальному делению Штетина. Даже необычайно важную роль архиепископа Новгорода мы поймем лишь в сравнении с той ролью, которую играли жрецы в жизни балтийских славян, по крайней мере, некоторых из них» {325}.
[41] Церковь св. Пятницы была заложена, вероятнее всего, особой корпорацией новгородских купцов, ведущих «заморскую» (заграничную) торговлю {326}.
[42] В 1948 г. А.В.Арциховский, говоря об оружии X в., четко сказал: «И шлем, и кольчуга, и стрелы русских дружинников отличаются от норманских». Только меч дружинников, подчеркнул он, аналогичен мечу норманнов. Но аналогичен потому, добавил археолог, что меч этого типа «не норманский, а общееропейский», вывозившийся и на Русь, и в Скандинавию из Западной Европы. Позже Д.А.Авдусин также заключил, что «типы русского и скандинавского оружия не совпадают». Он отмечает, что каролингские мечи, центр производства которых находился на Рейне, характерны для всех европейских стран. Их много в Скандинавии, на Руси, во Франции. И найдены они там, где скандинавов не было, например, в Чехословакии, в землях южных славян {327}. Но норманисты все продолжают уверять, что мечи на Русь доставляли из Западной Европы скандинавы {328}. При этом их нисколько не смущает, во-первых, тот факт, что на Руси не найдено ни одного меча из бесспорно скандинавских {329}, и, во-вторых, что, например, из 165 западноевропейских клинков с сокращенными надписями (клеймами) лишь 1 обнаружен в Швеции, тогда как в северных районах Германии (в землях балтийских славян) их найдено 30. Из прибалтийских территорий по численности подобных находок затем идет Латвия (22), Финляндия (19), Эстония (7), Литва (5). 11 таких мечей обнаружено в пределах бывшей Киевской Руси {330}. Приведенные цифры показывают не только тот путь, по которому на Русь шли франкские мечи, но и то, что шли они на восток без всякого участия скандинавов. А мечи с фирменными клеймами мастеров считались самими лучшими, в связи с чем «ценились особенно высоко» {331}.
Комментарии ко Второй части
[43] «Великой Скуфией» в византийской традиции, берущей свое начало от греческой, называлось нижнее Поднестровье. Летописец, ведя речь о расселении славян по Восточной Европе, говорит: «а уличи и тиверьци седяху по Днестру, приседяху к Дунаеви. Бе множьство их; седяху бо по Днестру оли до моря, и суть гради их и до сего дне, да то ся зваху от грек Великая Скуфь» {332}.
[44] Краткая Русская Правда содержит две статьи (10 и 11), где речь идет о варягах и колбягах. Особый интерес вызывает первая из них: «Аще ли ринет моужь моужа любо от себе, либо к собе, 3 гривны, а видока два выведеть; или боудеть варяг или колбяг, то на ротоу» {333}, т.е. должен принести только присягу. М.Ф.Владимирский-Буданов считал, что эта статья делает исключение для варягов и колбягов по той причине, «что этими названиями обозначаются вообще иностранцы, которым не легко было найти послухов на чужой земле». Б.А.Рыбаков же, напротив, полагал, что она «специально оговаривает» их неравноправность {334}. В Пространной Правде (Троицкий список второй половины XIV в.) в статье «О поклепной вире» речь идет о том, что «аще будеть на кого поклепная вира (обвинение в убийстве. – В.Ф.), то же будеть послухов 7, то ти выведуть виру; паки ли варяг или кто ин, тогда [то два]» {335}. Еще И.Н.Болтин высказал мнение, что в этом случае явно видно «снисхождение законодавца в пользу иностранных, повсюду являемое». Также полагал Н.М.Карамзин: «Итак, древние наши законы особенно покровительствовали иноземцев» {336}.
[45] В «Варяжской пещере» многие годы жил в затворничестве черноризец Печерского монастыря Феодор {337}. В Ипатьевской летописи в описании маршрута движения русского войска в 1223 г. к Калке сказано: «придо к реце Днепроу, ко островоу Варяжьскому» {338}. От руки варягов пал в 980 г. великий киевский князь Ярополк Владимирович: «и приде Ярополк к Володимеру; яко полезе в двери, и подъяста и два варяга мечьми под пазусе... и тако убьен бысть Ярополк». В 1015 г. варяги же по приказу Святополка Окаянного добили «еще дышющю» Бориса. В 983 г. для сотворения требы кумирам «паде жребий по завести дьявола», как с горечью пишет летописец, на сына варяга-христианина, который «пришел из грек». Отец не выдал сына язычникам и они были убиты {339}. В последнем случае следует заметить, что на южнобалтийской Руяне ежегодно закалывали для жертвоприношения Святовиту христианина, выбираемого из пленных по жребию {340}. Человеческие жертвоприношения у восточных славян были установлены Владимиром, вернувшемуся от варягов, где провел три года. Под 980 г. летопись, рассказывая, что Владимир поставил «кумиры» на холму, поясняет: «И жряху им, наричюще я богы, и привожаху сыны своя и дъщери, и жряху бесом, и оскверняху землю требами своими, и осквернися кровьми земля и холмо-т» {341}. А.Г.Кузьмин ставит в прямую связь мощное восстание в 983 г. на славянском балтийском Поморье, направленное против насаждаемого немцами христианства, с обострением «отношений между языческой и христианской общинами в Киеве», приведшее к гибели варягов-христиан {342}. [46] О воздействии на летописный текст мировоззрения самого летописца, а также времени и общества, в котором он жил, первым в науке сказал В.Н.Татищев, указав на сознательную роль и тенденциозность летописцев, писавших, по его словам, «за страх», «по страсти, любви или ненависти» {343}. К.Н.Бестужев-Рюмин окончательно сформулировал очень важный принцип, которым необходимо руководствоваться при обращении к летописному наследию: составные элементы летописей приобретут самостоятельное значение лишь при учете идеологической жизни эпохи. «Понять, какими идеями жило известное время, – первая обязанность историка, без того все века смешаются», – совершенно справедливо предупреждал ученый {344}. А.Г.Кузьмин сегодня правомерно подчеркивает: «Именно установление конкретной связи текста с породившей его средой должно составлять основное содержание исследования летописания» {345}.
[47] Лев Диакон, говоря о смерти киевского князя Игоря, последовавшей, как сообщает ПВЛ, от восточнославянского племени древлян, утверждает, что, «отправившись в поход на германцев, он был взят ими в плен, привязан к стволам деревьев и разорван надвое» {346}. Д.И.Иловайский видел в этом случае ошибку {347}. М.Я.Сюзюмов и С.А.Иванов излагают две версии, объясняющие появление «германцев» вместо древлян. Возможно, пишут они, что «Лев Диакон или писец со слуха приняли форму Berbiauoi (так называет древлян Константин Багрянородный) за Germauoi». Такого же невероятного свойства и другой их довод: так как древляне отличались «от племен, составивших ядро древнерусской народности, и по происхождению, и по обрядам, и по диалекту», то историк «счел нужным как-то маркировать эту обособленность древлян и связал ее с их местоположением на западе русской земли» {348}.
Отнесение Диаконом древлян к германцам связано, думается, с историей балтославянского мира, в западной части которого, граничащей непосредственно с германцами (Люнебургский Вендланд), на левом берегу нижней Эльбы жило большое славянское племя древляне или, по произношению западных славян, древяне (Drevani), входившие в союз бодричей и пришедшие сюда, по мнению А.Ф.Гильфердинга, в земли саксов около 900 года {349}. То, что между Южной Балтикой и Византией существовали прямые связи, показывает А.Г.Кузьмин. Видя в варягах вообще поморян (вар — одно из древнейших обозначений воды в индоевропейских языках), собственно варягами, варягами в узком смысле слова он признает вагров-варинов, племя, принадлежавшее к вандальской группе, к IX в. ославянившееся. Исследователь, обращая внимание на тот факт, что этноним «варины» на германской почве преобразуется в «веринги», у балтийских славян – «варанги», у восточных – «варяги», правомерно подчеркивает, что в Византии была усвоена именно та форма, что была характерна для балтийских славян, а не германцев и не восточных славян. А это, по его заключению, «может свидетельствовать о живых контактах варинов с Византией» {350}.
Видимо, от пришельцев с южнобалтийского побережья византийцы и узнали о западноевропейских древлянах, об их соседстве с германцами, что и было Львом Диаконом интерпретировано как генетическая близость этих народов, перенесенная им на восточнославянских древлян. Присутствие вообще на Востоке представителей славянского южнобалтийского мира, расположившегося на бывших землях германцев (немцев), объясняет, вполне возможно, загадочные слова среднеазиатского ученого ал-Хорезми (ум. после 846/847). Он, комментируя в своей «Книге картины земли» птолемеевское название «страны Германии», поясняет: «и она же земля славян». Другой арабский историк, географ и путешественник ал-Масуди (ум. 956) называл славянами «намчин» (т. е. немцев) и «турок» (т. е. венгров) {351}. (Об отнесении самими же славянами венгров, в 895 г. осевших на территории их прародины – Паннонии, к своему «роду-племени» см. коммент. [23].)
[48] Русский перевод Хроники Амартола (XI в.) дает несколько значений термина «франки». Там, где русь в подлиннике выводится «из рода франков» (genouV tvn jraggwn), в переводе читается «от рода вяряжеска соущим». Но в статье под 744 г., где речь идет о событиях не русских, а западноевропейских, «франки» переведены уже как «немцы» («под властью Немечскою приим с всею Италиею...») {352} В.М.Истрин в комментарии отмечал, что фраза «от рода варяжеска» указывает на русского переводчика-киевлянина, который правильно отождествил варягов с франками. Как полагал ученый, для южного славянина такое подразделение франков на немцев и варягов в зависимости от действия тех и других, «было бы недоступно». Дело в том, рассуждал он, что в Византии существовал особый наемный вспомогательный корпус, который византийские писатели называют то roV, то baraggoi, но чаще последним именем. Вместе с тем, у тех же византийских писателей baraggoi, как вспомогательное войско, соединяется иногда с франками, называясь вместе с ними «союзными корпусами». Таким образом, заключал Истрин, передача genouV tvn jraggwn как «род варяжский» следует объяснить хорошим знанием русским переводчиком военного устройства Византии {353}.
Довольно громоздкое и малоубедительное объяснение. Все значительно проще. Как известно, франками в Византии было принято именовать всех западноевропейцев {351}. Поэтому, византийцы, зная о выходе руси из пределов Западной Европы, относили ее к «роду франков». Русский же переводчик произвел замену непонятного для своих соотечественников слова «франки», в одном случае, на адекватный ему по смыслу термин «варяги», которым на Руси уже в XI в. было принято именовать определенную часть западноевропейского мира, в другом, на термин «немцы», имеющим тот же смысл. Остается заметить, что отождествление этносов было характерно для средневековых народов, в связи с чем надо весьма осторожно относиться к терминологии источников, что позволит избежать при их прочтении недопустимых модификаций и тенденциозности. Так, в Северо-Западной Европе Русь и русских очень часто называли Грецией и греками, на что было обращено внимание еще Г.З.Байером, отметившим, что Русь в XI-XII вв. немецкие авторы «Грецией» прозывали {355}. В западноевропейской средневековой литературе на протяжении долгого времени русских именовали «скифами». Так, французский хронист, повествуя о браке короля Генриха I и Анны Ярославны, пишет, что он «взял в жены скифиянку-русскую...». Как утверждал в 80-х гг. XVI в. Антонио Поссевино, русские ведут свое происхождение «от скифов и татар» {356}.
[49] «Сага о Скьёльдунгах» и «Сага об Инглингах» Снорри Стурлусона часть Восточной Европы именуют «Svitjođ hin stora» (вариант «Svitjođ hin mikla») – «Великая Свитьод» (трактуемая обычно как «Великая Швеция») или «Gođheimr» – «Жилище, обиталище богов», в то время как собственно Швецию они называют «Svitjođ» («Малая Свитьод»), образуя это имя от «Великой Свитьод», или «Mannheimr» – «Жилище, обиталище людей». «Великую Свитьод» саги располагают по обеим сторонам от Дона, и она включает в себя землю асов (на востоке от Дона) с их главным городом Асгардом, откуда Один переселяется в Скандинавию. В исландских географических сочинениях (не позднее XIV в.) «Великая Свитьод» уже не является «жилищем» богов и превращается в реальную территорию, отождествляемую со Скифией {357}. Название «Великая Свитьод», применяемое ко времени переселения предков шведских и норвежских конунгов – языческих богов – из Асгарда на Скандинавский полуостров, совершенно не имеет никакого отношения к Киевской Руси и не несет в себе того значения, как правильно замечает Т.Н.Джаксон, который стараются разглядеть в нем сторонники норманской теории образования Древнерусского государства {358}. Первым так вопрос поставил в 1917 г. шведский археолог Т.Ю.Арне {359}. Эта идея популярна сейчас за рубежом, имеются попытки навязать ее и нашей науке {360}.
[50] Такой взгляд на проблему начала венгерских (прикарпатских) русинов проистекал из концепции С.А.Гедеонова, согласно которой в истории была только одна Русь, Русь Поднепровская. Хотя к его времени был уже накоплен весьма значительный материал, говорящий о присутствии в древности разных Русий. Сегодня историк А.Г.Кузьмин, опираясь на изыскания своих предшественников, обративших внимание на тот чрезвычайно важный факт, что русская история не ограничивается одной лишь Киевской Русью и что наряду и параллельно с ней, а в ряде случаев и задолго до нее, имели место быть другие русские образования, и ссылаясь на многочисленные свидетельства иностранных источников, показывает существование во второй половине первого и начале второго тысячелетия более десятка различных «Русий». Это (как уже говорилось в комментарии [22]) несколько Русий на южном и восточном побережьях Балтийского моря, Русь Прикарпатская, Приазовская (Тмуторокань), Прикаспийская, Подунайская (Ругиланд-Русия). В своих трудах Кузьмин приводит обширную подборку самых разнообразных сведений о руси (первоначально ругов, но со временем почти повсеместно вытесненное именем «русы»), действовавшей на необозримых пространствах. Но большая часть этих известий почти не задействована в науке из-за того, объясняет исследователь, что «они не укладываются в принятые норманистские и антинорманистские концепции начала Руси». Вначале Кузьмин говорил о близких и родственных Русиях, но в 2003 г. сказал, что они, скорее всего, разного этнического происхождения. И, как подчеркивает историк, русы – славянизированные, но изначально неславянские племена {361}. Обнадеживает, что все большее число исследователей начинает рассматривать проблему ругов-русских в том же направлении, что и Кузьмин {362}.
[51] Информация о посольстве великой княгини Ольги к германскому королю Оттону I, о последующем пребывании на Руси Адальберта, поставленного «в епископы к ругам», а затем его изгнании из русских пределов, читается только в западноевропейских источниках X-XI вв., прежде всего в «Продолжателе Регинона Прюмского» (середина X в.). Продолжателем Регинона Прюмского, доведенного его составителем до 906 г., а затем продолженного до 967 г., исследователи практически единодушно считают того же Адальберта (ум. 981), первого магдебургского архиепископа (с 968 г.) {363}. Исследователи давно не сомневаются в истинности этих известий, и расходятся лишь в трактовке причин, вначале приведших Адальберта на Русь, а затем изгнавших его оттуда {364}.
[52] В случае с Бертинскими анналами С.А.Гедеонов проявил уступчивость норманизму, для которой вообще нет оснований. Дело в том, что «этническое название «свеоны», — констатирует А.Г.Кузьмин, — исторически не совпадало с названием «свевы» и свеонов отличали от свевов (будущих шведов), но «в раннее средневековье их стали смешивать» {365}. И если во времена Тацита (I-II вв. н.э.) свеоны обитали «среди самого Океана» и «помимо воинов и оружия, они сильны также флотом», то свевы жили в пределах материковой Европы – в южной Германии, у верхнего Рейна {366}, и в Скандинавию часть их проникла уже в эпоху Великого переселения народов (в VI в.), дав название Швеции {367}.
Кузьмин вместе с тем отмечает, что «в IX в. франкские летописцы «свеонами» называли неопределенное население Балтийского побережья и островов», т. е. этот термин является «географическим, а не этническим определением» {368}. Говоря, что титул «хакан» вообще чужд германскому миру, исследователь правомерно заключает, что он предполагает «с одной стороны, соседство тюркского народа, а с другой – независимость «каганата» от любого другого государственного образования». И этот «Росский каганат», созданный в конце VIII – начале IX в. и разоренный в 30-х гг. IX столетия хазарами и венграми, Кузьмин связывает с русами-аланами и с салтовской культурой на Дону и Северском Донце, и видит в нем соперника Хазарского каганата {369}. Стоит добавить, что существование на юго-востоке Восточной Европы первого русского государства — военно-торгового Русского каганата, передавшего имя «Русь» Днепровской Руси, — на широком материале убедительно показано Е.С.Галкиной {370}. В случае с Бертинскими анналами весьма важно еще одно ценное наблюдение Кузьмина: Пруденций не столько отождествляет росов и свеонов, сколько противопоставляет их {371}. «Росы» Бертинских анналов не имеют к шведам никакого отношения, и их следует рассматривать в свете существования многочисленных Русий в Европе (и прежде всего на славянском Балтийском Поморье), но которых никогда не было в Скандинавии. Если же принять версию норманистов, что речь в анналах идет о шведах, называвших себя в землях финнов roods-гребцы (отсюда якобы западнофинское ruotsi/ruootsi и славянское «русь»), то получается, что перед франкским императором предстали посланники народа «гребцов» (!) с «хаканом» во главе (!). Какая-то странная история, когда во главе мореходов ставят «хакана», либо «гребцов» заставляют жить в степи {372}. Но норманистов смутить трудно, и для них «наиболее аргументированной – с языковой, археологической и исторической точек зрения – представляется скандинавская» версия происхождения названия «Русь» {373}. В свое время норманист Н.Т.Беляев, прекрасно понимая, в чем все же камень преткновения, задавался вопросом: «Если росы шведы, то почему их владетель хакан?» {374}
[53] Название руси «северными людьми» («норманнами»), что читается у Лиудпранда Кремонского (ум. 971/72), имеет, как он сам же объясняет, территориальное, а не этническое значение: «Ближе к северу обитает некий народ, который греки по внешнему виду называют русиями, мы же по местонахождению именуем норманнами. Ведь на немецком языке nord означает север, a man – человек; поэтому-то северных людей и можно назвать норманнами» {375}. И эта характеристика дана человеком, хотя и находящимся во Франкфурте-на-Майне, но все же смотревшим на Восточную Европу с юга. «Для Северной Италии, где жил Лиудпранд, — поясняет Кузьмин, — «норманнами» были уже жители Задунавья, а для Южной Италии – и Северной Италии» {376}. Подобная практика была характерна и для византийских памятников, которым, как заметил М.В.Бибиков, «присуща замена этнонимов описательными выражениями, например, «северный» может обозначать русских...» {377} К рассуждениям С.А.Гедеонова остается добавить, что, по мнению современных исследователей, «европейские средневековые хронисты под «норманнами» подразумевали совокупность балтийских племен», а в ряде случаев они так прямо называли славян {378}.
[54] Впервые, как уверяют Е.А.Мельникова и В.Я.Петрухин {379}, русские названия порогов интерпретировал как скандинавские шведский историк Ю.Тунманн в 1774 г. Одни из самых активных сторонников норманской теории в отечественной науке здесь ошибаются. Тема названий днепровских порогов в контексте варяжского вопроса звучит, например, у Г.З.Байера. Причем, важно отметить, он, приведя их названия по-русски и по-славянски, дал объяснение только последним {380}. Но по-русски для него, уточняет К.Н.Бестужев-Рюмин, означало по-скандинавски {381}, хотя он и не решился, в отличие от своих преемников, на какие-либо этимологические изыскания в этой области, видимо, осознавая их зыбкость. Затем Г.Ф.Миллер утверждал в 1773 г., что названия днепровских порогов говорят о неславянском происхождении варягов {382}. А на следующий год Тунманн дал норманистское обоснование «русским» названиям порогов {383}.
Мельникова и Петрухин также утверждают, что информатором императора был скандинав. Но, как хорошо известно, последние Днепровского пути не знали совершенно, а главное, их появление в Византии относится лишь к концу 20-х гг. XI в, что не позволяет увидеть в норманнах собеседников Багрянородного, скончавшегося в 959 г. Названные ученые нисколько не сомневаются, что для Константина VII народ «росов» тождественен со скандинавами, хотя об этом император, конечно, не сказал ни слова. Русские названия порогов, завершают они свои наблюдения, «имеют прозрачную скандинавскую этимологию», «наиболее удовлетворительно этимологизируются из древнескандинавского (до диалектного распада) или древнешведского (с восточноскандинавскими инновациями) языка» {384}. А.Г.Кузьмин в отношении подобных заключений верно заметил, что «норманские» объяснения остаются малоубедительными не только потому, что предлагаемые соответствия слишком отдаленны, но и потому, что появлению топонимов предшествует длительное проживание на данной территории соответствующего населения» {385}.
В комментарии редактора [3] говорилось о статье М.Ю.Брайчевского, приведшего убедительные параллели к «русским» названиям днепровских порогов из осетинского языка и вместе с тем подчеркнувшего, что из германских языков нельзя объяснить ни одного названия. В 1999 г. В.П.Тимофеев блестяще продемонстрировал, что «русские» названия порогов не имеют никакого отношения ни к одному из скандинавских языков, из которых их, с нарушением норм, принятых в лингвистике, пытаются вывести норманисты {386}.
По мнению А.Г.Кузьмина, эти названия, возникшие в IX в., когда еще сохранялось двуязычие аланов-русов (они полностью перейдут на славянский язык в начале следующего столетия), ведут к «Руси-тюрк», к Балтийской Руси. Особо выделяя из прибалтийских Русий Роталию (Западная Эстония), историк отмечает, что о ней много говорится в Датской хронике Саксона Грамматика (начало XIII в.), что именно с ней датчане вели многовековые войны на море и на суше. В 1343-1345 гг. именно эти «русские» возглавили восстание против Ливонского ордена, а «русские» села, подчеркивает Кузьмин, и позднее будут упоминаться в документах, касающихся этой территории. Эти же земли отнес к «Руссии-тюрк» комментатор Адама Бременского, и в ее пределах ученый помещает «Остров русов» восточных авторов, видя в нем о. Саарема (Эзель), называемый сагами «Holmgardr» и переносившими это имя по созвучию и на «Новгород». В «Руссии-тюрк» Кузьмин видит Аланскую Русь (или Норманский каганат), созданную в IX в. русами-аланами после их переселения с Дона из пределов разгромленного хазарами и венграми Росского каганата {387}.
[55] Пидиблянин (от Пидьбы – притока Волхова) – житель местности под Новгородом. В НПЛ младшего извода под 989 г. говорится о приходе в Новгород архиепископа Иоакима Корсунянина: он требища разрушил, «и Перуна посече, и повеле влещи в Волхово; и поверзъше ужи, влечаху его по калу, биюще жезлеем; и заповеда никому же нигде же неприяти» {388}. Его, приставшего к берегу, и оттолкнул утром следующего дня пидиблянин.
[56] С.А.Гедеонов справедливо заостряет внимание на том обстоятельстве, что Перун и Велес являлись славянскими божествами и не были известны германцам. И если ни в славянском, ни в русском язычестве нет скандинавских черт, то из этого следует лишь одно: варяги не были скандинавами. Нет скандинавских божеств и в языческом пантеоне, созданном Владимиром тогда, когда, по мнению норманистов, скандинавы «в социальных верхах числено преобладали». Хотя, подчеркивает А.Г.Кузьмин, «языческий пантеон, созданный Владимиром, указывает и на широкий допуск: каждая этническая группа может молиться своим богам» {389}. Само отсутствие скандинавских богов среди восточнославянских божеств -одно из многочисленных отрицаний тезиса о норманстве руси.
Вместе с тем хорошо известно, кто, кроме русских, почитал Перуна. Гельмольд называет главного бога земли вагров – Прове {390}, в котором видят искаженное имя славянского Перуна {391}. И.Первольф констатировал, что четверг у люнебургских славян (нижняя Эльба) еще на рубеже XVII-XVIII вв. назывался «Перундан» (Perendan, Perandan), т. е. день Перуна, олицетворявшего в их языческих верованиях огонь небесный, молнию {392}. По замечанию А.Г.Кузьмина, данный факт предполагает широкое распространение культа Перуна и признание его значимости {393}. А.Ф.Гильфердинг отмечал, что Перуну поклонялись на всем славянском Поморье. В числе кумиров священной крепости на о. Руяне, добавляет М.К.Любавский, стоял Перунец {394}. Перун, являясь именно богом варяго-русской дружины, тем самым указывает на тот район, откуда могла придти к восточным славянам варяжская русь, – на Южную Балтику. На нее же указывает и характер изображения божеств, установленных Владимиром в 980 г. {395}
Комментарии к Примечаниям
[57] Со столь категоричным утверждением ученого не позволяет согласиться материал, показывающий, что термин «варяги» в XII-XIII вв. являлся синонимом словам «немцы», «римляне», «латины», и обозначал собою значительную часть западноевропейского, католического мира. Прежде всего следует назвать «Слово святаго Феодосья игумена Печеръскаго монастыря о вере крестьянской и о латыньской» (ум. 1074), сохранившиеся в списках XIV-XVI вв. Оно было написано по вызову киевского великого князя Изяслава Ярославича (ум. 1078) и, как полагают, это произошло в 1069 г. {396} Во второй и третьей его редакциях читается, во-первых, «и рече Изяслав: «исповежь ми, отче, веру варяжьскую, какова есть»; во-вторых, «латина Евангелие и апостолы имеют и ины святыа, и во церковь ходят; но и вера их и закон нечист; всю землю осквернили суть: понеже по всей земли варязи суть...» {397} В первой редакции речь идет только о «латинянах» и о «латинской вере».
Полную равнозначность терминов «варяги» и «латины» демонстрирует Киево-Печерский патерик, сложение которого заняло несколько столетий (20-е гг. XIII в. – 1462 г.). По мнению специалистов, Патерик отражает реальную историческую действительность XI-XII вв. {398} В Патерике о переходе в православие варяга Шимона-Симона, прибывшего из «земли Варяжской», сказано, что «иже прежде бывь варягь, ныне же благодатию Христовою християнин, научен бывь святымь отцем нашим Феодосием, оставивь латиньскую буесть и истинне веровав в господа нашего Иисуса Христа и со всемь домомь своимь, яко 3000 душь и со ереи своими...» Название «Варяжской пещеры» объяснено в Патерике тем, что в ней «варяжский поклажай есть, понеже съсуди латиньстии суть. И сего ради Варяжскаа печера зовется и доныне». Памятник содержит третью редакцию «Слова» Феодосия, где старец, используя в отношении западноевропейцев в негативной форме выражения «вера латинская» и «латины», говорит, что «множествомь ереси их всю землю онечествоваша, понеже по всеи земли варязи суть... Несть бо жизни вечныа живущимь в вере латыньстьи...» Не подобает, предостерегает старец, хвалить эту веру, а кто это делает, тот «обретается свою хуля; или начнеть хвалити непрестанно чюждаа веры, отреченныа православнаго христианьства, таковый обретается двоверець и близ ереси есть». Ты же, наставляет он князя, храни свою веру: «И аще ти от которыа веры еретик или латинин, всякого помилуй и от беды избави, и мзды от Бога не погрешиши» {399}.
Судя по Патерику, термины «варяги» и «варяжский» в смысле «латины» и «латинский» широко бытовали уже во второй половине XI в. Но равнозначными они стали, конечно, значительно раньше, уже, по крайней мере, во времена Ярослава Мудрого. Именно при нем, согласно Патерику, появился на Руси варяг Шимон-Симон, который в 1068 г. (после спасения в битве на Альте, что предрек ему старец Антоний), «прежде бывь варягь», но как только принял православие, оставил «латиньскую буесть», т.е. католическую веру, и вместе с ним ее оставили, как добавляет памятник, его окружение, в том числе, и священники, т. е. те же «варяги-латиняне», в общей сложности около трех тысяч человек. Чтобы стать синонимом «латинам», термин «варяги» должно было вначале приобрести значение «западноевропейцы», пришельцы «из заморья» и в таком виде определенное время существовать в устной традиции, позже перейдя в письменную практику, и прилагаться ко всему тому, что было связано с ними, например, «земля Варяжская», «варяжская поклажа» и другие. В связи же с противоборством двух ветвей христианства, особенно после известных событий 1054 г., термин «латины», уже накрепко спаянный с «варягами», входит в повсеместное употребление, определяя собой религиозную и географическую принадлежность к Западу.
«Вопрошание Кирика», находящееся в Синодальной Кормчей XIII в., которое специалисты относят ко времени около 1136 г. и связывают с именем диакона и доместика новгородского Антониева монастыря, говорит о «варяжьском попе» как служителе именно католического культа. На вопрос: «А оже се носили к варяжьскому попоу дети на молитвоу?» был дан ответ, что в этом случае шесть «недель опитемье, рече, занеже акы двоверци соуть» {400}. Исследователи видят в «варяжском попе» указание на присутствие в Новгороде почему-то именно готландцев {401} или же только скандинавов вообще {402}, хотя для подобных выводов нет никаких оснований. В «Вопрошании» «варяжский поп» – служитель «латинской веры», названной в документе: «Оже боудеть кый человек и крещен в латиньскую веру, и въсхощеть пристоупити к нам?» {403} А ее представлять в Новгороде, учитывая его самые широкие и активные связи со многими странами Западной Европы, могли многие выходцы из ее пределов и не обязательно именно скандинавы.
Статья «О муже кроваве», помещенная в Кормчих особого состава перед списками Пространной Правды, также види в варягах не православных вообще: «Аще ли пьхнеть муж моужа любо к себе, либо от себя, ли по лицу оударить, или жръдию ударить, а без зънаменияа, а видок боудеть, бещестие емоу платити; аще будеть болярин великых боляр, или менших боляр, или людин городскыи, или селянин, то по его пути платити бесчестие; а оже боудеть варяг или колобяг, крещения не имея, а боудеть има бои, а видок не боудеть, ити има роте по своей вере, а любо на жребии, а виноватый в продажи, в что и обложать» {404}. В.О.Ключевский, основываясь на анализе денежного счета, имеющегося в статье, относил ее к середине XII века {405}. Данная статья стала основой статьи «О мужи кроваве» Сокращенной Правды, где колбяги уже отсутствуют: «Аще ударит на смерть жердию или попехнет, а знамения нет, а видок будет, аще будет болярин или людин или варяг, крешения не имея, то по их пути платити безчестие; аще видока не будет, ити им на жребии, а виноватый в продаже, во что обложат» {406}.
О смысловой нагрузке, содержащейся в термине «варяги» в XII в., полно говорит мирный договор новгородцев «с всеми немьцкыми сыны, и с гты, и с всем латиньскым языкомь», который в науке обычно относят к 1189-1199 гг. (В.Л.Янин датирует его 1189-1191, Е.А.Рыбина и А.Л.Хорошкевич 1191-1192) {407}. В договоре готы именуются либо «немцами», либо упоминаются под своим именем отдельно от «немцев», Готланд называется «Гъцк берег», Западная Европа – «Немечьской землей», а ее жители – «немцами». В документе читается пункт: «Оже емати скот варягу на русине или русину на варязе, а ся его заприть, то 12 мужь послухы, идеть роте, възметь свое» {408}. И он показывает полнейшую равнозначность термина «варяги» с терминами «немцы» и «латины» («латиньский язык») и обозначает вместе с ними всю совокупность многочисленных западноевропейских партнеров Новгорода, в будущем составивших мощный Ганзейский торговый союз. Договор, понятно, отражает не только традицию бытования термина «варяги» в конце XII в. в значении «западноевропейцы», но и практику его давнего функционирования в этом значении.
В 1949 г. И.П.Шаскольский пришел к выводу, что написание «немьце» в Синодальном списке НПЛ неправильно и представляет собой «скорее всего, просто ошибку переписчика», и что вместо винительного падежа оно должно стоять в именительном «немцы», как это читается в списках младшего извода. Отсюда, полагал он, истинный перевод статьи 1188 г. должен звучать следующим образом: «Порубили новгородцев варяги на Готланде, [а] немцы в Хоружке и Новоторжце» (под последними он понимал города материковой Швеции) {409}. В 1986 г. А.А.Зализняк предложил свою интерпретацию рассматриваемой статьи. Как он считает, глагол «рубити» («рубоша») – это одна из форм глагола «рути» (подвергать конфискации), а «Новоторжец» – не название города, что исключено по нормам русского языка, а обозначение жителя города Новый Торг (Торжок). Далее он вслед за Шаскольским считает, что «немьце» Синодального списка – это описка. С учетом всех этих замечаний, перевод текста звучит таким образом: «Варяги, готландские немцы, конфисковали товар у новгородцев за вину Хоружка и новоторжцев» {410}. В этом случае ученый совершенно верно подметил абсолютное тождество для конца XII в. терминов «немцы» и «варяги», в связи с чем, они в равной степени были приложимы к готам, как к одному из западноевропейских, католических народов.
Пояснение последних одновременно двумя равнозначными словами «варяги» и «немцы» могло быть сделано летописцем либо одновременно, а именно тогда, когда первое стало выходить из практики употребления, либо же одно из них в последствии было уточнено другим, уже безраздельно господствующим в письменной традиции в качестве знака принадлежности к западноеропейцам, или же, наоборот, уже вышедшим, так сказать, из «моды». В летописях встречаются оба варианта. В статье 1188 г. наличествует как раз первый случай: в 90-х гг. XII в. термин «варяги», вытесненный «немцами», полностью исчезает из новгородского делопроизводства, будучи упомянутым в последний раз в договоре 1189-1199 гг. В церковной литературе это происходит, если судить по «Вопрошанию Кирика», в 30-х гг. этого же века, в летописях – в самом начале следующего. Так, праславянский этникон «немцы» возобладал в конечном итоге в отечественной практике наименования большинства западноевропейских народов. И рубеж XII-XIII вв. в новгородской письменной традиции был своего рода эпохальным, когда утверждались новые и уходили в прошлое старые понятия, определявшие место новгородцев в тогдашнем мире, что свидетельствует о росте их, можно так сказать, национального самосознания прежде всего под воздействием западноевропейской, католической экспансии на Восток. Это подтверждает и тот факт, что представители новгородской стороны в договоре 1189-1199 гг. именуются как новгородцами, так и русью, русинами. Последнее встречается в северозападных памятниках в отношении новгородцев впервые: до этого так называли только жителей Южной Руси {411}. К себе новгородские книжники прилагали до этого исключительно термин «словенин», присутствующий, например, еще в «Вопрошании Кирика» {412}. А в НПЛ новгородцы впервые названы русью под 1314 г.: «Избиша корела городчан, кто был руси в Корельском городке (г. Кексгольм, на западном берегу Ладожского озера. – В.Ф.), и въведоша к собе немец...» {413}
Обозначение жителей Западной Европы «варягами», исчезнув из светской письменной практики в начале XIII в., вновь вернется в нее лишь через несколько столетий (Рогожский летописец, известный в единственном списке 40-х гг. XV в.) и будет прилагаться летописцами к прошлой и современной им эпохе. Но все это время оно продолжало сохраняться в устной традиции, что было засвидетельствовано в начале XVII в. шведом П.Петреем и в 50-70-х гг. того же столетия хорватом Ю.Крижаничем. Вместе с тем, термин «варяги» использовался в смысле «западноевропеец», «католик», «безбожник» церковными писателями, что наглядно демонстрирует Киево-Печерский патерик {414}.
[58] Видя в варягах норманнов, Д.И.Иловайский отстаивал и доказывал славянство руси, изначально, по его мнению, проживавшей в Среднем Поднепровье и известной под именем поляне-русь. Такой принципиальный подход к проблеме «руси» и «варягов», а также ничем неоправданный скептицизм исследователя к довольно-таки большой части известий ПВЛ второй половины IX-X в., привели его к тому, что он, правильно указав на вставной характер варяжской легенды, вместе с тем полностью отрицал ее достоверность, признав ее «басней», «сказкой», совершенно лишенной каких-либо народных основ {415}, домыслом новгородских книжников. Искусственное, по его словам, «случайное» отождествление руси с варягами ученый опровергал, опираясь на показания польских хронистов XV и XVI вв. Я.Длугоша и М.Стрыйковского, посла Габсбургской империи С.Герберштейна, на русскую редакцию XIII в. «Никифорова летописца вскоре», помещенной в Новгородской Кормчей 1280 г., на летописи XVI-XVII вв., которые, на что делал особый упор Иловайский, не смешивали русь с варягами, т. к. в их основе, полагал он, лежали древние и неиспорченные своды (особое внимание при этом уделялось разночтениям «к варягом, к руси» и «к варягам», «реша руси» и «реша русь») {416}.
[59] Расчет русских княжений (под 6360 г.) заканчивается словами: «а от перваго лета Святославля до перваго лета Ярополча лет 28; а Ярополк княжи лет 8, а Володимер княжи лет 37; а Ярослав княжи лет 40. Темже от смерти Святославля до смерти Ярославли лет 85, а от смерти Ярославли до смерти Святополчи лет 60». В нем И.И.Срезневский выделил три слоя: до смерти Святослава, до смерти Ярослава, до смерти Святополка {417}. К.Н.Бестужев-Рюмин, исходя из этого факта, заключал: «Таким образом, сами собою определяются нам три слоя первоначальных источников летописи: записки до смерти Святослава, до смерти Ярослава, до смерти Святополка» {418}. А.Г.Кузьмин, видя в расчете русских князей следы неоднократного редактирования, приходит к выводу, что основная часть перечня была составлена в более ранний период, чем время после кончины Святополка. По его мнению, это произошло в 50-60-е гг. XI в., когда была создана основная редакция ПВЛ, где были поставлены проблемы начала Руси, читались повести о русских князьях и была введена абсолютная хронология по константинопольской эре. Автором этой редакции Кузьмин считает летописца, отстаивавшего интересы сыновей Ярослава Мудрого против Всеслава Полоцкого. Тогда же в киевскую летопись был впервые привлечен новгородский источник, о характере которого наиболее полное представление дают прежде всего Софийская первая и Новгородская четвертая летописи. В ПВЛ этот источник вошел с большими сокращениями и названные летописи в подавляющем большинстве случаев дают первоначальное чтение {419}.
[60] Около Волина сосредоточена примерно третья часть всех кладов Поморья {420}. О соотношении кладов на южнобалтийском побережье и в Скандинавии говорят хотя бы такие цифры: для первого периода обращения дирхем (до 833 г.) известно 37 кладов в Восточной Европе, 17 – в Западной, и лишь 4 на Готланде. На время до 900 г. на Русь приходится 45 кладов, на Западную Европу – 12, на Скандинавию – 10 {421}.
[61] В данном случае С.А.Гедеонов, как и многие ученые того времени, повторил ошибку Н.М.Карамзина, а не слова А.Л.Шлецера. Карамзин утверждал, будто бы шведский историк Ю.Видекинди свидетельствует, что хутынский архимандрит Киприан, как «депутат Новгорода», убеждал московских бояр избрать в цари шведского принца и приводил им как довод в пользу такого выбора пример из истории, что первый наш князь Рюрик был из Швеции {422}. При этом он сослался на Шлецера. Но Шлецер говорит лишь о переговорах новгородцев в шведском Выборге в 1613 г., на которых Киприан, «отряженный епископом и другими именитыми новгородцами, сильно настоял на том, чтобы шведского королевича Карла (курсив автора. – В.Ф.) избрать великим московским князем» {423}. В Москве Киприан окажется лишь в январе 1615 г., т. е. через два года после избрания на престол Михаила Романова. И он, конечно, никак не мог убеждать бояр посадить на трон шведского королевича Карла-Филиппа (см. подробнее коммент. [63]). [62] По убеждению А.А.Куника, норманская теория не является плодом выдумки немца Г.З.Байера, и письмо Ивана Грозного шведскому королю Юхану III от 11 января 1573 г. есть пример «живучести в России XVI-XVII в. традиции видеть в варягах именно шведов», неоспоримое свидетельство того, что «с 16-го столетия до Петра Великого под варягами – насколько это имя еще употреблялось – преимущественно разумели опять живущих вблизи шведов (курсив мой. – В.Ф.), как в эпоху основания российского государства» {424}. Точно также полагали К.Н.Бестужев-Рюмин и В.Томсен {425}. Но разговор двух монархов о варягах эпохи Ярослава Мудрого, который инициировала русская сторона, не имел никакого отношения к вопросу выяснения их племенной принадлежности.
В октябре 1571 г. Иван Грозный, отвергая предложение короля вести переговоры и заключить мир с Москвой, объяснял ему невозможность этого традицией, освященной авторитетом «старины», авторитетом Ярослава Мудрого. В ходе чего он и упомянул тех, кто мечом утверждал власть киевского князя в Прибалтике: «Потому при нашем прародителе при великом государе Ярославе Георгии, которои в чюди в свое имя в Вифлянскои земле град Юрьев поставил, и тот тогды самодерствовал в своеи отчне в Великом Новгороде. А не токмо Вифлянская земля и Свеиская послушна была, и заморские немцы на воину с ним хаживали, то в летописцех в старых и в кронокех написано» {426}. В ответ на слова, что некогда Руси «не токмо Вифлянская земля и Свеиская послушна была», шведский король 31 июля 1572 г. с нескрываемым раздражением возражал: «А что ты пишешь, что один из твоих предков по имени Ярослав Георгий имел якобы Швецию под своим началом, того в наших книгах нет, то ты сам сочинил по своему велему разуму» {427}. Именно эта реплика Юхана III и вынудила царя вновь обратиться к личности Ярослава Мудрого в письме от 11 января 1573 г., где «заморские немцы», которые, как он утверждал в октябре 1571 г., с князем на войну «хаживали», были уже названы им «варягами»: «А что ты написал по нашему самодержьства писму о великом государи самодержце Георгии-Ярославе, и мы потому так писали, что в прежних хрониках и летописцех писано, что с великим государем самодержцем Георгием-Ярославом на многих битвах бывали варяги, а варяги – немцы, и коли его слушали, ино то его были, да толко мы то известили, а нам то не надобе». В коммент. [24] и [57] говорилось о полнейшей равнозначности терминов «немцы» и «варяги» и их взаимозаменяемости, что видно и по рассматриваемому письму.
Иван Грозный завел речь со шведским королем о своем прародителе в самый разгар Ливонской войны, в канун начала прямой борьбы со Швецией за орденские владения лишь только с одной целью – для обоснования прав России на Прибалтику, в прошлом находившуюся под юрисдикцией русских властей, древнейший город которой – Юрьев (Дерпт, Тарту) – был основан в 1030 г. Ярославом Мудрым, носившим христианское имя Георгий-Юрий. И Юрьев был для русских символом прибалтийских земель, за которые велась война, неоспоримым доказательством справедливости и полной законности притязаний России на эту территорию, некогда входившую в состав Руси. Поэтому не случайно, что, начиная с 1559 г., в дипломатической переписке с польской и шведской сторонами в царском титуле Ливония упоминается в неразрывной связи с названием города Юрьева, как ее исторической столицы: «государь земли Ливонские града Юрьева», «обладатель Ливонской земли града Юрьева» {428}.
[63] Следует полностью согласиться с А.А.Куником, назвавшим «первым норманистом» шведа Петра Петрея де Ерлезунда (ок. 1570-1622), по его словам, «довольно неудачно» заявившего о себе в 1615 г. {429} В названном году в Стокгольме вышла книга Петрея «История о великом княжестве Московском», с дополнениями и исправлениями переизданная на немецком языке в 1620 г. в Лейпциге. При создании своего труда Петрей широко использовал западноевропейские и русские источники: Герберштейна, Одеборна, Меховского, Гваньини, Буссова, фрагменты летописей. Но до него никто еще не говорил и не доказывал, что «от того кажется ближе к правде, что варяги вышли из Швеции» {430}. Как явствует из дальнейшего изложения, побудила его к такому заключению речь новгородских послов, произнесенная ими перед братом шведского короля Густава II герцогом Карлом-Филиппом 28 августа 1613 г. в Выборге. Петрей так передает этот факт: новгородцы настаивали на переезде герцога в Новгород,«поставляя на вид, что Новгородская область, до покорения ее московским государем, имела своих особенных великих князей, которые и правили ею; между ними был один тоже шведского происхождения, по имени Рюрик, и новгородцы благоденствовали под его правлением» {431}.
Еще большую известность получила в Западной Европе речь новгородцев благодаря шведскому историку («государственному историографу») Ю.Видекинди, растиражировавшую ее в своей работе «История десятилетней шведской войны в России», опубликованной в 1671 г. на шведском языке в Стокгольме, а на следующий год в несколько сокращенном варианте – на латинском в Германии. Он и назвал имя того, кто указал на шведское происхождение Рюрика при встрече со шведским принцем в Выборге 28 августа 1613 г. Им, по его словам, был глава новгородского посольства, архимандрит новгородского Спасо-Хутынского монастыря Киприан {432}. После Петрея и, особенно, Видекинди у шведских ученых этнос варягов уже никогда не вызывал никакого сомнения. О Швеции, как родине варягов, утверждали в конце XVII – начале XVIII в., например, О.Верелий (1618-1682), О.Рудбек (1630-1702), А.Скарин (1684-1771), работы которых выходят соответственно в 1672, 1689 и 1698, 1734 гг. {422} И это, надо заметить, далеко не полный перечень шведских ученых, доказывавших до Байера норманство варягов.
С.А.Гедеонов, опять же идя вслед за Н.М.Карамзиным {423}, ошибался, полагая «Видекиндово известие» за «изобретение». Но ни Видекинди, ни Петрей ничего не выдумали, и слова Киприана зафиксировано документально. В Государственном архиве Швеции хранится отчет о переговорах шведов и новгородцев, состоявшихся в Выборге 28 августа 1613 года. Вот что в нем якобы сказал глава новгородского посольства: «Новгородцы по летописям могут доказать, что был у них великий князь из Швеции по имени Рюрик, несколько сот лет до того, как Новгород был подчинен Москве, и по их мнению, было весьма важно иметь у себя своего великого князя, а не московского». Но это одна из версий речи Киприана. Другая содержится в хранящихся в том же архиве «Путевых записках от июня 1613 г. вплоть до февраля 1614 года» лично присутствовавшего на переговорах Даниэля Юрта де Гульфреда, секретаря герцога Карла-Филиппа: «И еще оповестил о том, что последний (так в тексте. – В.Ф.) из их великих князей был из Римской империи по имени Родорикус». Сообщение Юрта содержит буквально понятый шведами лейтмотив «августианской легенды» о происхождении Рюрика «от рода римского царя Августа», в обязательном порядке звучавший в речах наших послов того времени, а это прямо показывает, что именно и произнес Киприан.
Неукоснительно следуя русскому дипломатическому этикету, он лишь изложил «римскую» версию происхождения русского правящего дома перед шведским королевичем. Именно это и записал Юрт, ошибочно поняв слова архимандрита (либо сам, либо с помощью переводчика), что Рюрик «от рода римска царя Августа» за свидетельство его выхода «из Римской империи». Единственное объяснение «перевоплощения» Рюрика в шведа в отчете о переговорах видится в следующем. Возможно, Киприан произнес фразу, подобную той, что содержится в «приговоре» предыдущему новгородскому посольству к шведам от 25 декабря 1611 г. В нем говорится, что все жители Московского государства избрали себе царем «свийского Карла короля сына, которого он пожалует дасть. ...а прежние государи наши и корень их царьской от их же варежского княженья, от Рюрика и до великого государя... Федора Ивановича всеа Руси, был» {435}. В «приговоре» посольству Киприана фраза «от их же варежского княженья» отсутствует, но он, что хорошо видно по протоколу, произнес ее в своем обращении к Карлу-Филиппу.
Термин «варяжский» совершенно не несет в рассматриваемом случае этнической нагрузки, о чем, например, утверждали П.С.Савельев, С.М.Соловьев, Г.А.Замятин и другие. Он был приложен к шведам лишь как к части западноевропейского, «варяжского» мира. Слова о «варяжском» происхождении Рюрика, т. е. о его выходе из пределов Западной Европы и его принадлежности к семье европейских монархов, многие из которых также возвеличивались своим началом от Августа, были ошибочно приняты шведами за свидетельство причастия варяжского князя к их народности {436} и в таком виде были внесены в официальный документ. А затем они были выданы норманистами за извечное мнение самих же русских об этносе варягов, в связи с чем, на летописцев стали смотреть не только как на «первых норманистов», но и даже более того – как на «сознательных творцов норманской концепции» истории Руси. Юрт вел свои записи, согласно обязанностям секретаря, во время самих переговоров, в связи с чем, очень близко передал смысл речи Киприана, отметив лишь «римское» происхождение Рюрика, на которое и было указано архимандритом. Речи же послов во время переговоров не протоколировались, а записывались (точнее, восстанавливались по памяти) по их окончанию, что также сыграло свою роль в восприятии слова «варяжский», стоявшее рядом с именем Рюрика, в качестве этнонима «шведы».
Этому могло способствовать еще одно обстоятельство, о котором сказал М.А.Алпатов в отношении Петрея, но которое на полном основании может быть приложимо к его соотечественникам – это пристрастие интервентов {437}.
Не может быть, конечно, и речи о том, что, как думает Г.М.Коваленко, слова «прежние государи наши и корень их царьской от их же варежского княженья, от Рюрика», якобы свидетельствуют в пользу родства Карла IX и его детей с пресекшейся русской династией {438}. О каком родстве можно говорить, если династия Ваз, так грубо навязывающей во время Смуты новгородцам свой план их отчленения от России, воссела на шведском престоле лишь совсем недавно – в 1523 г. и никакого отношения к древним правителям Швеции не имела, о чем ее представителей многократно попрекал Иван Грозный. С точки зрения царя и нашей дипломатии, династия, избранная на престол, не могла равняться с русскими монархами, а государство, которое они возглавляли, стояло значительно ниже России. С королями из династии Ваз Грозный даже не поддерживал непосредственных отношений (они считались унизительными), и с ними общались только через новгородских наместников {439}. И последнее. У Юрта, секретаря герцога, человека, связанного с большой политикой, нет ни слова о шведском происхождении Рюрика. Если бы Киприан действительно сказал об этом, то при политической значимости такого заявления для шведской стороны, до Столбовского мира 1617 г. пытавшейся всеми мерами отторгнуть от России Новгородские земли и Псков, оно было бы не только записано, но и надлежащим образом было бы использовано. Но в шведских документах того времени, где обстоятельно анализировалась ситуация в России, где взвешивались все шансы Карла-Филиппа на избрание на российское царство и изыскивались любые возможности для удержания захваченных территорий, личность Рюрика абсолютно не фигурирует. А таким козырным картам, апеллирующим к древности, в то время придавалось исключительное значение {440}.
В 1877 г. Куник в отношении слов Киприана, занесенных в официальный протокол, справедливо сказал: «Это семечко упало не на бесплодный камень и шведам, воспользовавшимся намеком новгородцев, принадлежит честь заложения первых камней в здании норманизма. Первая, хотя и слабая попытка труда с подобным направлением была напечатана в 1615 г. В течение того же XVII ст. убеждение в призвании первых русских князей утвердилось в Швеции, причем шведы обратили внимание на Væring-j-ar исландцев и на собирательное Rotsi финнов; шведские пленные оценили даже значение несторовой летописи по отношению к варяжскому вопросу прежде, чем Байер по переводу фрагментов привел ее в связь с иностранными свидетельствами». Полемизируя со своими оппонентами, ученый утверждал, что, если не существует никакой антинорманистской школы, то «норманисты, напротив, образуют старую школу, возникшую в 17 столетии» {441}. Но вместе с тем Куник ошибался, говоря, что глава новгородского посольства ссылался «на предание, – почерпнутое, конечно, из одних только русских летописей, – о происхождении Рюрика из Швеции» {442}. Ни в летописях, ни в народных преданиях нет даже намека на какую бы то ни было связь Рюрика со скандинавским миром.
О причинах, приведших к зарождению норманской теории в шведской историографии XVII в. см. коммент. [22]. Роль Байера в истории норманизма была куда значительно скромнее, чем это обыкновенно утверждается: он, как указывал еще Куник, лишь ввел в научный оборот Бертинские анналы, неизвестные шведским историкам XVII в. {443}, и, надо добавить, всемерно популизировал и закреплял своим авторитетом крупного европейского ученого норманскую теорию в русской науке. Но первым ее перенес на русскую почву Миллер, сказав в 1732-1733 гг. на страницах «Sammlung russischer Geschichte» о скандинавской природе варягов {444}. О масштабах распространения норманизма в Западной Европе в середине XVIII в. красноречиво говорит тот факт, что Вольтер, по его же признанию, воспринимал историю России как «дополнение к истории Швеции» {445}. Вместе с тем этот факт указывает и на давность бытования норманизма в западноевропейской историографии.
[64] А.Ф.Гильфердинг также отмечал, говоря о названии рароги-рерики, что на польском и чешском языках рарог – это сокол {446}. О.М.Рапов доказал, что фигура на монетах Рюриковичей (т.н. «трезубец») является изображением летящего сокола {447}.
[65] Речь идет о Балтийской Руси {448}.
[66] Во времена С.А.Гедеонова битву при Бравалле было принято датировать первой половиной VIII века. В зарубежных работах 70-80-х гг. прошлого столетия ее относили к рубежу V-VI вв., концу VI – началу VII в., к VII в., что встретило аргументированное возражение со стороны наших ученых {449}. В отечественной науке Бра-валльскую битву определяют обычно в пределах 770-786 годов. Составитель «Sogubrot af nokkrum fornkonungum i Dana ok Svia veldi» (XIII в.) ошибался и «Регнальд русский», внук Радбарда, сражавшийся на стороне шведов, имел отношение не к Киевской Руси, а к какой-то балтийской Руси. Шведам противостояли датчане, союзниками которых выступали южнобалтийские славяне.
[67] Материал показывает, что связь южнобалтийского Поморья с Русью прослеживается прежде всего в момент активного наступления на балтийских славян их врагов. В коммент. [7] были приведены известия НПЛ под 30-ми гг. XII в., свидетельствующие о противостоянии новгородцев и датчан, достигшего своего апогея в 1134 г.: «Том же лете рубоша новгородць за моремь в Дони». Подмечено, что этот конфликт совпадает по времени с вторжением датчан в земли южнобалтийских славян. Более того, исследователи констатирует, что по мере обострения отношений между Данией и Поморьем ухудшались отношения датчан и новгородцев {450}. В Ипатьевском, Хлебниковском и Ермолаевском списках под 1148 г. сказано, что киевский великий князь Изяслав Мстиславич, идя на владимиро-суздальского великого князя Юрия Долгорукого, остановился в Смоленске у брата Ростислава. Братья встретились и «Изяслав да дары Ростиславоу что от Роускыи земле и от всих царьских земль, а Ростислав да дары Изяславоу что от верьхних земль и от варяг...» {451} Специалисты в области летописания связывают данную статью с соратником Изяслава Мстиславича, «личным княжеским летописцем» {452}.
В.Н.Татищев, обратившись к летописному известию под 1148 г., дал ему следующую трактовку: «Ростиславли дары состояли из весчей верховых земель и варяжских, а Изяслав – от греческих и венгерских» {453}, т. е. ученый воспринял указание «от варяг» в смысле территории, земли, по аналогии с впереди стоящей фразой «от верьхних земль». По М.П.Погодину, «верхняя земля» – это Швеция и Готланд, откуда в Смоленск могли явиться варяги, т. е. понял летописное «от варяг» как этнос. А.А.Куник также видел в варягах 1148 г. готландцев {454}. С.М.Соловьев, Д.И.Иловайский и А.А.Шахматов полагали, что под «верхними землями» понимаются либо Северо-Западная Русь вообще, либо Новгород, в частности {455}.
Сама летопись не оставляет сомнений в отношении того, что понималось в Южной Руси под «верьхними» землями. Под 1147 г. Изяслав, обращаясь к Ростиславу, говорит: «Брате, тобе Бог дал верхнюю землю... а тамо оу тебе смолняне и новгородци» {456}. Но в ней отсутствует подобная конкретность в отношении варягов. С учетом отсутствия в термине «варяги» этнического значения, под ними, конечно, можно разуметь многих представителей Западной Европы. Но кого именно? Под варягами 1148 г. очевидец встречи братьев не мог понимать кого-либо из германцев, т. к. Двинской путь, по которому можно было попасть в Днепр и в Смоленск, был обнаружен ими очень поздно и при том совершенно случайно: в 1158 г. По свидетельству западноевропейских памятников, отразившихся в поздних списках «Хроники Ливонии» Генриха Латвийского, в этом году «ливонская гавань впервые найдена была бременскими купцами» {457}. Только с этого времени, отмечал Н.Аристов, началось «особенное сношение русских с иностранцами» {458}. По мнению М.Бережкова, лишь с конца XII в. готландские купцы стали посещать устье Двины {459}. Поэтому, ошибался А.А.Шахматов, полагавший, что скандинавы, преимущественно из Южной Швеции и Готланда, проникали на Русь главным образом по Двине {460}. Эту же ошибку повторяют и современные норманисты {461}.
При раскопках в Смоленске была обнаружена ротонда – круглая в плане церковь второй половины XII в., необычная по своей форме для Руси. Историки смоленской архитектуры трактуют ее как латинскую церковь, т. е. храм иностранных купцов, посещавших Смоленск {462}. П.А.Раппопорт, обращая внимание на тот факт, что круглые церкви были широко распространены в XII в. в Скандинавии и Северной Германии, не сомневается, что руководителем ее строительства «был, по-видимому, скандинавский зодчий», но возводили ее «смоленские мастера». Саму постройку он относит к 70-80-м гг. XII столетия {463}. Таким образом, археологические данные также датируют время появления в Смоленске скандинавских и немецких купцов лишь второй половиной XII столетия, что объясняется открытием ими Двинского пути лишь в 1158 г. Поэтому, ни скандинавов, ни немцев не могло быть в Смоленске десятью годами ранее, т. е. в 1148 г.
Варяги статьи 1148 г. – это представители южнобалтийского славянства, которых вынудили прибыть в Смоленск грозные события, разворачивавшиеся на их земле. В середине XII в. многовековое противостояние германцев и прибалтийских славян, по словам Видукинда Корвейского, первых – «ради славы, за великую и обширную державу», вторых – «за свободу, против угрозы величайшего рабства» {464}, вступило в свою финальную и трагическую развязку, вскоре завершившуюся окончательным покорением славян. Как повествует западноевропейский хронист Гельмольд, в 1147 г. крестоносцы предприняли поход против славянских народов {465}. Этот «крестовый поход», организованный по инициативе императора Конрада III, благодаря мореходам с острова Рюгена, разгромившим флот датчан, постигла полная неудача. Но захватчики, огромными силами вторгшись в Померанию и Пруссию, страшно опустошили эти территории. Когда Запад предпринял в 1147 г. масштабное наступление на славян, посольство последних в 1148 г., используя Двинской речной путь, могло прибыть в Смоленск в поисках так весьма необходимой им помощи {466}.
[68] Ал-Масуди среди народа «ар-рус» упоминает «некий разряд, называемый ал-лудаана. Они наиболее многочисленны и ходят по торговым делам в страну Андалус, в Рум, Константинийю и к хазарам». Под «ал-лудаана» в науке понимали литовцев, норманнов, купцов-евреев. Высказано мнение, что так названы ладожане {467}.
[69] Новгород с его западными партнерами связывали три «горных» пути – Вотский, Лужский и Псковский, исходными пунктами которых со стороны запада являлись, соответственно Ревель, Нарва и южнобалтийские города. Из них самым главным и самым важным был Псковский, связывающий Русь с Южной Балтикой, сохранивший свое значение и во времена Ганзейского союза. По нему издревле через Литву в Новгород и Псков шли, как отмечают историки, купцы из Любека, Ростока, Стральзунда, Гринсвальда, Штетина и других городов балтийского Поморья {468}. Поэтому, трудно сказать наверняка, о каких варягах идет речь в НПЛ в статье под 1201 годом. Под этим именем могли быть скрыты многие из западноевропейцев, в том числе и те, кто начал захват Восточной Прибалтики. Именно в 1201 г. крестоносцы заложили крепость Ригу.
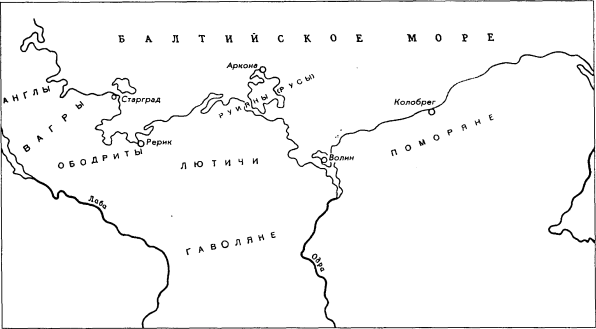
Балтийские славяне в IX–X веках